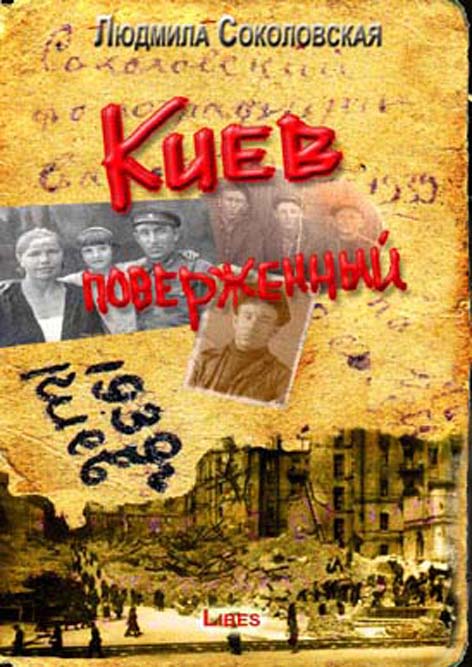
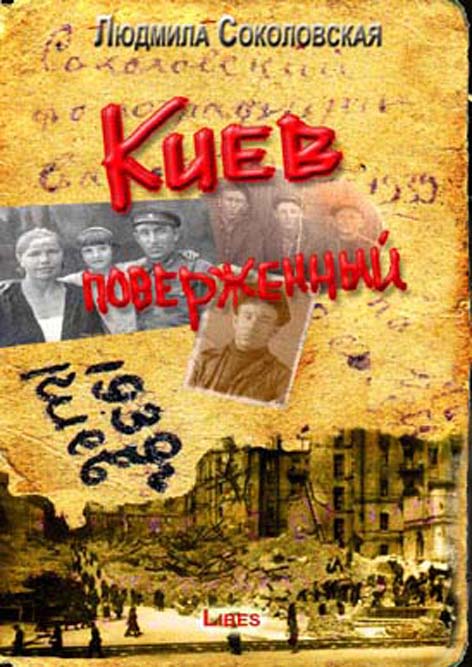 Наступает время, когда о минувшей войне пишут уже не воевавшие, а их младшие братья и сестры. Забывается то, о чем думали, надеясь, что оно никогда не изгладится из памяти. Город Толбухин, переименованный болгарами в честь своего освободителя, снова стал Добричем. Оскверняются мемориалы на территории бывших республик СССР. Уходят ветераны. Да и младшие уже скрываются за горизонтом. А так хочется рассказать, как виделась война по обе стороны линии фронта…
Наступает время, когда о минувшей войне пишут уже не воевавшие, а их младшие братья и сестры. Забывается то, о чем думали, надеясь, что оно никогда не изгладится из памяти. Город Толбухин, переименованный болгарами в честь своего освободителя, снова стал Добричем. Оскверняются мемориалы на территории бывших республик СССР. Уходят ветераны. Да и младшие уже скрываются за горизонтом. А так хочется рассказать, как виделась война по обе стороны линии фронта…
Наманган, Узбекистан. На узкой постели я прихожу в себя после приступа малярии с температурой 41,5°. Мама моет пол, чтоб мне легче дышалось. Папа — на трудовом фронте, на Урале. Вдруг вопль: «Лизочка! Лизочка!» Полина Павловна Клингерман, соседка, полная женщина, бежит вдоль дувала, истошно выкрикивая мамино имя.
Среди женщин Полина Павловна была редкой счастливицей. Ее шестидесятилетний муж не подлежал призыву. Она ворвалась в нашу комнатенку, мама шагнула к ней, они обнялись, зарыдали — и без единого слова я, девятилетний, понял: Киев наш! Мой Киев — он снова наш!
Весь в холодном поту, едва живой от быстрого падения температуры, я сидел за праздничным столом у Клингерманов, куда мама принесла меня на руках, не в силах даже есть, а внутри все ликовало: «Ага, бесноватый фюрер, вот тебе!.. Еще не то тебе будет!.. Еще скорчишься в своем Берлине, когда мы и его возьмем!»
Через несколько дней так же истошно, как кричала Полина Павловна, мама будет звать ее, и так же мигом та поймет причину и примчится возвращать меня к жизни. После приступа с температурой 42° у меня остановилось сердце.
Но пока была победа, было ликование и — слезы. Слезы, которые без слов сказали мне, что никогда больше не увижу я свою добрую бабу Либу и своего любимого дядю Иосифа. И — глубокая война. Убиты на фронте два дяди и два девятнадцатилетних кузена. Ежедневно после прихода почтальона — крик во дворах…
То было 7 ноября 1943 года.
Днем раньше в Святошине, пригороде Киева, одиннадцатилетняя Люда Соколовская со своей мамой, в ожидании уличных боев изгнанные немцами из города под страхом расстрела, перебирали и чистили картошку, единственную еду, найденную беженцами в брошенном доме. Там собралось много таких, как Соколовские, жителей города. Ведро с картошкой поставили варить во дворе.
Гремела канонада. Было неспокойно, немцы суетились, перебегали двор. Вдруг кто-то увидел, что по полю, которое начиналось сразу за двором, бегут уже не немцы, а наши. За полем был лес, из него выбегали все новые солдаты. Перебегали, залегали. Некоторые уже не поднимались. Первые вошли во двор. Беженцы высыпали наружу, обнимали, целовали их. И увидели, что они в гражданской одежде. Оружие они должны были добыть в бою.
Потом появились военные в погонах, и беженцы растерялись. Погоны? На наших?! Всех мужчин тут же погнали на передовую — необученных, без оружия…
Между тем доварилась картошка. Беженцы смеялись: варить начали при немцах, а едим при наших!
К вечеру появились наши танки, остановились на центральной площади. Из-за леса еще выскакивали немцы. Не стреляли, убегали тихо. Танкистам несли все, что оставалось в домах. Женщина с ребенком увидела мужа-танкиста и кинулась к нему. Ликовали все. Во всех забурлила надежда, что вот-вот вернутся и их мужья и отцы. Ликовала и Люда, хоть ее папа погиб в киевском окружении на глазах своих друзей.
Танки умчались, а люди, забыв об осторожности, расхаживали по Святошину.
И вдруг снова немецкие танки и автоматчики. Наугад обстреляли хаты и к вечеру исчезли. В садах и на улицах осталось несколько трупов.
Утро следующего дня началось невиданной по силе бомбежкой. Бомбы сыпались градом. Люди обезумели. Кто-то из военных крикнул: «Все в лес!» Лес был в километре, за полем. Побежали — под бомбами. В конце двора был сарай на сваях, немцы держали там лошадей. Люда с мамой хотели спрятаться под сваи, но там не было свободного местечка. Кинулись дальше — и в сарай тут же угодила бомба. Люда с мамой бросились к сортиру, он казался укрытием, хоть стены были из кукурузных стеблей, без дверей, без крыши. Их оттолкнул мужчина и заскочил туда сам. В тот же миг ему снесло голову, она повисла на лоскутке кожи, из шеи фонтанчиком забила кровь… Побежали к лесу. На опушке, вытянув руки, стоял солдат без обеих кистей: «Помогите, кто смелый!» Людина мама остановилась, оторвала полосу от подола юбки и перетянула ему обе руки выше локтей…
В лесу, под прикрытием высоких сосен, стало не так страшно. На поляне устроили привал. Стемнело. Было холодно. Разожгли костер… Снова началась бомбежка. Лес шатался. Прибежали военные: костер — сигнал немцам, гасите немедленно!
Стали проверять документы.
Людина мама советский паспорт носила на себе. Немцам предъявляла украинский, он был в кармане. А тут подала советский. Ее с Людой отвели в сторону. Советский паспорт был еще у одного мужчины. Проверка закончилась, им велели бежать без оглядки и указали направление. Побежали — и позади раздались автоматные очереди и вопль ужаса: свои расстреливали своих — толпу без документов. Наверное, была среди расстрелянных и женщина с ребенком, встретившая накануне мужа-танкиста.
В Святошине пошли к хате, где варили картошку, а хаты — нет, одни обломки.
Поплелись к Киеву. Светила луна. Землю покрывал легкий снежок. На шоссе — только убитые. И вдруг у телеграфного столба сидит немец с автоматом. У Люды душа ушла в пятки. Присмотрелись — а немец мертв.
Нигде ни огонька. Никто не отзывался на стук. Дошли до хаты, где останавливались по пути в Святошино. Там по-прежнему было полно людей. Соколовским дали по куску хлеба и кипяток, но предупредили: на рассвете придется уйти.
Легли на полу. В другой комнате спали солдаты. Ночью появились немцы. Хозяин тихо поднял солдат и выпустил их через черный ход во двор. Немцы увидели беженцев с детьми, спросили, нет ли солдат, и ушли, а хозяин перевел всех во двор, в погреб. Там было холодно и сыро, но безопасно.
Утром хозяева согрели воду, раздали по одной картофелине и попросили всех уйти. И тут увидели, что Люда босая. Тогда эти добрые люди дали ей какие-то опорки, замотали ноги тряпками и обвязали веревками, чтобы опорки не слетали.
Свою картофелину Люда не съела, а откусывала маленькими кусочками и сосала, как конфету. Оставшуюся часть прятала в рукав пальто. Это не было детское пальто, это был жакет, подвязанный веревкой, с закатанными рукавами.
Толпа беженцев шла к Киеву. На дороге валялись трупы, догорали танки и машины.
У города снова появились немцы. Поднялась паника. Одни ложились прямо на снег, другие побежали в сараи. Спрятались и Люда с мамой. Долго сидели, затаившись, но картофелину Люда не выронила…
Кто-то выглянул, сказал, что немцев нет, и толпа снова двинулась.
В городе разбрелись. Слышалась стрельба, пробегали то немцы, то наши. От немцев прятались в подворотне. Сутки пересидели где-то. Стрельба утихла, город словно вымер. Стали пробираться к себе, на Ленина, 16/18. Пришли — а дом, выходивший на улицу, догорает. В третий раз с начала войны чудом уцелевшие при первой бомбежке Соколовские оказались нищими, босыми, голодными, и им негде было заночевать.
Побрели к знакомым на Подол. Там, у Житного базара, был двойной двор. Во втором дворе на втором этаже жили знакомые.
У входа навалены были горы снега. Преодолев их, Соколовские поднялись по лестнице, но дом оказался пуст. Неудивительно: еще вчера здесь шел бой. Спустились, вышли из подъезда — и увидели, что переступали не через сугробы, а через присыпанные снегом трупы. Выбежали на улицу. Казалось, мертвые гонятся за ними. Куда податься в зимнем городе, наполненном трупами? На улице жутко, холодно, мороз. Пошли к Марии Григорьевне, прятавшей мужа-еврея. С этой семьей Соколовские прожили последние месяцы оккупации. Теперь эти изумительные люди приняли их снова…
Война, увиденная глазами детей, — это и есть подлинная война. Но, оказывается, десятилетия нужны, чтобы увиденное еще и изложить по-детски. Семь десятилетий отделяют «Киев поверженный» Людмилы Соколовской-Дудукаловой от событий войны. Будни описаны с лаконизмом участника какой-то жуткой эстафеты: от бомбежек осады, через угрозу Бабьего Яра, через голод, пожар, уничтоживший второе пристанище, через беспризорничество, чудесное воссоединение с мамой, угон в Германию, бегство из эшелона, ожидание расправы…
Я лениво, между делом писал свою повесть о детстве, о войне — семейную хронику для детей и внуков, не думая на сей раз о публикации и не больно заботясь о стиле. «Киев поверженный» повернул мое перо. Семейная хроника послужила сырьем для трилогии «Детские повести»: «Мама, там стреляют…», посвященная Шурке Волкову, первому в жизни дружочку, убитому с матерью в Бабьем Яру, «Дети Крещатика», «Цена Победы».
«Дети Крещатика» рождены короткой главкой воспоминаний Людмилы Соколовской-Дудукаловой. Она единственный на планете свидетель того, что среди многочисленных категорий жертв войны была и такая — еврейские дети, вытолкнутые родителями из шествия смерти и выживавшие некоторое время в руинах на северо-западном углу Крещатика и Прорезной. Возможно, ютились еврейские дети и в других убежищах. Но в поисках партизан и подпольщиков немцы, обосновавшись в городе, стали прочесывать развалины и весь город с присущей им педантичностью, и до освобождения Киева никто из этих беспризорников не дожил.
Утверждаю это с печальной уверенностью потому, что Моисей Мижирицкий, мой любимый дядя, еврейский писатель, член ЕАК, репрессированный и умерший в тюремном вагоне в 1951 году, собирал и отправлял в Москву, Эренбургу и Гроссману, свидетельства для «Черной книги», изданной — тоже с запозданием! — лишь полвека спустя. Пока шла тяжба о нашей квартире, мама и я, вернувшись из эвакуации, жили в семье дяди. Год, проведенный с ним, стал вехой в моей жизни. Дядя исхаживал Киев вдоль и поперек в поисках свидетелей, опрашивал людей, живших у Бабьего Яра, очевидцев зверского расстрела 29–30 сентября. Дважды предупреждал меня: «Не уходи, будут интересные люди». «Интересными» были недобитые — молодая женщина и юноша лет шестнадцати. У женщины, милой брюнетки, одна половина головы четко, словно по линейке, была снежно-белой. У высокого, очень бледного юноши висела вдоль тела левая рука, правой он поднимал ее и укладывал на подлокотник кресла.
Люде Соколовской смерть, как уже отмечено, грозила многократно. Лишь чудом и словно ради сохранения свидетельства она не погибла с теми, чьему существованию стала единственным свидетелем. Короткую главку о жизни с беспризорниками она заканчивает словами: «Когда сошел снег, я ходила на развалины, но не нашла уже ни хода, ни детей. Говорили, что немцы и полицаи устраивали облавы в развалинах, искали партизан и евреев. Я внушила себе, что дети перебрались в другое место и выжили…»
Увы, не выжили. Не было такой категории среди дядиных собеседников — еврейских сирот, переживших оккупацию. В повести «Дети Крещатика» я спас от расстрела в Бабьем Яру своего Шурку и, подобно другим детям, поселил в развалинах. Учитывая арийскую внешность моего дружка и то, что немцы в оцеплении не все были звери, это было вполне реально. Но продлить его грустную жизнь мне не удалось. Окончить посвященную детям Крещатика повесть на оптимистической ноте я не смог…
Людмиле в начале войны было девять. По себе знаю: в этом возрасте все запоминается с фотографической отчетливостью. Да ведь какие события! Прямо перед глазами Люды, буквально над ее головой, взметаются уничтожающие красавец Крещатик взрывы. Трупы, пожары, казни… Бездомность, сиротство… А голод, холод, угроза выдачи немцам?!
Такое хочется забыть. Но дети требовали рассказов о детстве. А детство — вот оно: бомбежки, оккупация, послевоенная нищета… Рассказы потрясали, и дочери Людмилы потребовали, чтобы мама наконец записала их.
Кошмарный бред — единственное подходящее определение тому, что довелось видеть и пережить Люде Соколовской. Остается лишь сожалеть, что ее повествование делается доступным читателю так поздно. Времена больших тиражей миновали, да и интерес к теме угас. И тянет к печальному рондо, к возврату в начало этого повествования, где грустно комментировалось неизгладимое из памяти, наше прежнее «никто не забыт, ничто не забыто».
Забыто! В сегодняшнем полумирном быту мало кто полагает, что прошлое может повториться. Может. Еще как! Жестокости немецкой оккупации покажутся актом милосердия в сравнении с тем, что творят на планете ублюдки человечества.
В ходе недавней осады торгового центра Westgate в Найроби исламские джихадисты выбрасывали из окон отрубленные головы заложников. Судебно-медицинские эксперты сообщили, что лишь незначительное меньшинство заложников погибло «легкой смертью» — застрелены при попытке к бегству. Остальные дали богатый материал специалистам, изучающим психологию ислама в целом и джихада в частности. Патологоанатомы, работавшие с останками погибших, сказали, что после всех ужасов, какие им доводилось видеть, они даже мысленно не в состоянии возвращаться к тому, в каком виде предстали перед ними останки замученных людей, и не могут выразить это словами.
Политкорректные СМИ Запада не стали писать об этом, но сообщения проникли от независимых хроникеров. Одним из первых опубликовал свой анализ Дон Перлмуттер на сайте FrontPageMagazine. Не смею даже цитировать его.
В свете этих событий еще и еще раз пожалеешь и о сегодняшних малых тиражах, и об увядающей памяти о прошлом.
Петр МЕЖИРИЦКИЙ, Сан-Диего




