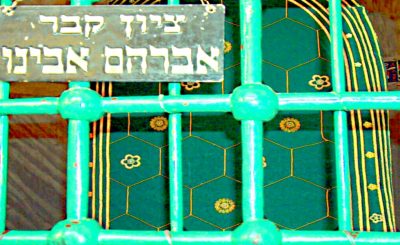Из истории массовых репрессий в СССР (Харьков, конец 40-х — начало 50-х гг. ХХ века): семейная история — и не только
Зима 1952-53 года. Вторая наша в харьковской каморке на Лермонтовской. Мы с бабушкой и сестрой были выселены сюда из более приличного и просторного «ведомственного» дома после ареста родителей: их посадили «за политику», и мы трое к ведомству, владевшему тем домом, где семья занимала пусть и небольшие, но две комнаты, теперь отношение утратили.
Сестра год назад вышла замуж, вскоре родила первенца и с ним переселилась в квартиру мужа, где живут его родители и семья его сестры. Мы с бабушкой Сарой, маминой мамой, остались здесь: в доме центральное отопление после войны ещё не восстановлено, комната отапливается печкой-«буржуйкой» и быстро выстывает — с младенцем жить здесь было бы трудно. Квартира — «воронья слободка»: семь семей, и к нам стучать семь раз. О чём предупреждает записка на входной двери.
Выхожу на раздавшийся утром стук — за дверью незнакомец в белой овчинной дублёнке и зимнем треухе. Простая курносая физиономия, улыбка с хитрецой. Назвав меня по имени-фамилии, он говорит:
— Вам привет и письмо от папы вашего из Воркуты. Я там отбыл срок в лагере, освобождён, еду домой.
И тут же, передав мне пакет, прощается: у него скоро пересадка, спешит обратно на вокзал…
За что посадили родителей? Нам, их детям, и никому из родни этого не объявили — до момента, когда после многомесячного следствия в облуправление МГБ (министерства госбезопасности) прибыло из Москвы письменное сообщение с постановлением по их, родителей, «делу». Впрочем, «дело» у каждого оказалось своё. Нам лишь зачитали заочно вынесенный приговор Особого совещания при министре госбезопасности СССР: каждому из родителей — по 10 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях особо строгого режима, да расшифровали формулировки статей особой части Уголовных кодексов: отцу — по статье 54, пункты 10 и 11, УК УССР, матери — по статье 54, пункты 10 и 11, УК РСФСР: это в обоих случаях «ведение антисоветской агитации» и «участие в контрреволюционной организации». Так объявила майор госбезопасности Лебедева, к которой я был вызван для объявления приговора и возвращения изъятых при обыске книг. Она зачитала приговор по бумажке, пряча от меня колючий взгляд пустых серых глаз, а содержание статей объяснила своими словами.
Я связал бечёвкой две огромных пачки книг и с трудом дотащил их домой. Оказалось, вернули не всё, притом — с каким-то странным выбором: отцову (сохранившуюся с довоенных времён) «Хрестоматию по истории Октябрьской революции», где среди документов — речь Троцкого на II съезде Советов 25 октября 1917 г.: в ней Лев Давидович хвастанул, что совершена «самая бескровная» из всех революций в мире» (с подбитием итогов явно поспешил!). Эту книгу вернули, а вот «Пётр Первый», которого я взял почитать у бывшего одноклассника, почему-то оставили у себя (видно, «зачитали…»)
Арестовали родителей 8 августа 1950, каждого — на своей работе, вызвав к начальству. Маму — к управляющему «Гипростали» Кривоносову, папу, недавно сменившего место работы, — к управляющему «Облпроектом». Там в кабинетах их встретили и предъявили прокурорские ордера на арест оперативники ГБ. Маму немедленно увезли в тюрьму, а отца повели домой для присутствия при обыске квартиры.
Арест, при всей своей внезапности, для обоих не стал неожиданным. С 1934 года, когда семья жила в Ленинграде, с того вечера, как оба они, приглашённые на собрание тамошнего партхозактива, где должен был выступать Киров, неожиданно вернулись домой из-за отмены собрания, а наутро услышали по радио о том, что Киров убит, застрелен, как раз и началась полоса арестов по Ленинграду, да и по всей стране, покоя больше не знал никто. И мать, и отец входили в круг активных коммунистов, мама лично была знакома с убийцей Николаевым… И у обоих наших родителей в партийном личном деле было по записи о колебании в проведении генеральной линии большевистской партии. Потому-то их и попросили уехать из Ленинграда: парторганизация северной столицы не прогибалась перед генсеком, и тот, убив своего «лучшего друга», как пели уже тогда, «в коридорчике» Смольного, устроил разгон самостоятельных и непокорных, выявив их по анкетам: «было колебание? — Вон из Питера!»
Отцу тогда предложили самому выбрать, куда перевестись из Ленинградской военно-политической академии, где он читал курс политэкономии. Он выбрал военно-хозяйственную в родном ему Харькове, где вырос, где жили его мать и сестра со своей семьёй… Ленинградскую квартиру без труда поменяли на харьковскую в лучшем районе… Но там обоих — и его, и маму — вскоре исключили из партии.
Отец, ставший комсомольцем, а вскоре и партийцем, в 1920 году, «колебнулся» в 1923-м, во время открытой партийной дискуссии. Он по всем вопросам, кроме одного, поддержал тогда линию генсека партии Сталина. Но по одному вопросу (организационному) присоединился к мнению председателя Реввоенсовета Льва Троцкого, считавшегося в партии вторым по значению после Ленина (Сталин тогда занимал по авторитетности гораздо более дальнее место, вроде десятого…)
Вскоре, однако, после какой-то партконференции он пересмотрел своё мнение и с той поры стал-таки непоколебимым сталинцем. Но случай остался зафиксированным в его партийном деле, и с этих пор папа при каждой чистке партийных рядов упоминал об этой своей «ошибке.
В 1927 году «колебнулась» и мама. К этому времени она ещё училась в Ленинградском коммунистическом университете им. Г. Зиновьева, возглавлявшего Коминтерн. Он же стоял во главе Ленинградской парторганизации. Его сторонник Минин был ректором этого, «коммунистического», университета (не путать с Ленинградским же «государственным»!).
Зиновьев — один из ближайших соратников Ленина, делил с ним на двоих кров убогого шалаша в Разливе под Сестрорецком, где оба скрывались в июльские дни 1917 г. от Временного правительства. Мама, участница большевистского движения с тех же июльских дней, была среди сторонников его политических взглядов, считая их ленинскими. Тем не менее, по призыву группы сторонников Сталина явилась на созванное ими партсобрание. Ректор, однако, потребовал от всех пришедших с собрания уйти, т.к. оно было созвано меньшинством коммунистов парторганизации. И, подчиняясь требованиям Устава партии, она собрание покинула. Но потом решила, что в этом её «колебание…». Так и стала писать в партанкетах: «Было ли колебание?» — «Да, было».
За это её теперь, через 23 года, и упекли в сталинский концлагерь. К моменту их ареста мы, их дети, знали обе истории. Но нам они заслуженно и обоснованно казались пустяковыми. О каком участии в контрреволюции, троцкизме и зиновьевщине могла идти речь, когда и папа, и мама верили в коммунизм, рисковали за него своими жизнями в подполье и в битвах Гражданской войны, пели революционные песни, назвали дочь именами сразу двух вождей революции: Маркса и Ленина, а сына — именем железного чекиста?!
Таковы были наши аргументы в жалобах, которые мы писали всем, кому могли: Генеральному прокурору СССР, Председателю Президиума Верховного Совета страны и, конечно, главное, — лично дорогому товарищу Сталину. На все наши письма приходили совершенно одинаковые ответы: «Ваши родители осуждены правильно, оснований для пересмотра дел не имеется».
И вдруг теперь, зимой 1952 года, читаю написанное с детства знакомым мне размашистым почерком отца его жалобу на имя Генерального прокурора СССР Сафонова Григория Николаевича. А там — вот какой описан сюжет.
С первого же допроса (который, как и все последующие, проводился ночью, а днём в следственной тюрьме спать запрещалось категорически: тюремщики следили за этим через «глазок» в двери камеры и уснувшего на стуле беспощадно будили) следователь Самарин пытался заставить отца признаться в том, что тот с 1923 г. по день и момент ареста вёл контрреволюционную троцкистскую деятельность и агитацию. «Нам всё известно, признавайтесь!», требовал Самарин. И каждый раз, о ком бы из знакомых или родственников ни заводил речь, настаивал на признании в антисоветских разговорах, контрреволюционной деятельности…Он называл старых друзей отца и матери, — в частности, отсидевших десятилетние сроки в лагерях папиного друга по Ленинграду Ефимчика (Арона Иосифовича Ефимова-Фрайберга) и его жену Шуру Курсакову, летом 1947 г. выезжавших из Норильска, где оба жили и служили после лагерей, и впервые выехавших на «Большую землю» в надежде найти своих детей (дочь нашли у родни, сын пропал бесследно в блокаду)… Заезжать в Харьков они не имели права, но запрет нарушили для встречи с лучшими друзьями комсомольской юности, и это было демонстративно обнаружено и зафиксировано бдительными оперативниками «органов»… Теперь следователь требовал сознаться: «Какие антисоветские разговоры вы тогда вели, о чём сговаривались?» И тут же грозился по поводу Ефимчика с Шурой: «Надо арестовать!»
Любое действие, любой поступок отца толковались следователем как контрреволюционные. Например, скучая по лекторской работе, отец в 1946 году вступил в «Общество по распространению политических и научных знаний» (вскоре его назвали короче: обществом «Знание»). Лекция, с которой выступал отец, называлась так: «Вползание США в мировой кризис капитализма». (С тех пор США всё никак не могут в тот «кризис» вползти…) Следователь пристал с вопросом: «Какую контрреволюционную, антисоветскую цель вы ставили себе при вступлении в это общество?»
Шла ли речь о питерских друзьях: маминой соученице по комвузу Дусе Поповой, её муже — выпивохе Пете — заводском работяге, — следователь непременно замечал: «Надо арестовать!»
Отец тогда не знал, вряд ли было известно и следователю, а я узнал лишь много позднее: Дуся в послевоенные годы работала одним из технических секретарей первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) — сталинского любимца А. А. Жданова — члена Политбюро… Но «Самаркин» (как его пренебрежительно именовал отец в своём составленном после реабилитации наброске плана воспоминаний), и о ней сказал: «Надо арестовать!».
По-видимому, в таком же духе тот же «Самаркин» допрашивал и маму. При нашем свидании с отцом в Воркуте (1954) он мне рассказал, что следователь познакомил его с протоколом допроса жившей этажом ниже нас чертёжницы «Гипростали» Паши Касьяновой. На вопрос, какие «антисоветские разговоры» вела с нею Блюма Абрамовна Маргулис (наша мама), добросовестная Паша ответила: «Она жаловалась на маленькую зарплату». Маме и в самом деле платили зарплату небольшую: тогда — 500 р., что в ценах 1961 г. составило 50 р. — заработок, вот именно, антисоветский и контрреволюционный… Платите больше!
Но особенно донимал Самарин отца (думаю — и маму) настойчивым требованием признаться: какую антисоветскую, контрреволюционную агитацию вели они в среде толокшейся у нас в квартире студенческой молодёжи: соучеников и приятелей моей сестры (да потом и моих) как по её филологическому факультету, так и по занятиям в литературных студиях: при областном отделении Союза писателей и литстудии Университета.
Среди этой молодёжи были люди очень яркие. Это, прежде всего, жених сестры поэт Борис Чичибабин, ныне известный всему русскому миру, а тогда с 1946 г. приговорённый к 5-летнему заключению и находившийся в Вятлаге (г. Кай, Кировской области). Сестра ездила к нему на личные свидания трижды за его «пятилетку», что, конечно, политическое реноме родителей наших в глазах следователей не украсило…
Намечавшийся всерьёз брак сестры с Борисом был его арестом и пребыванием в лагере всё-таки сорван… Правда, творческая дружба и общение их продолжались вплоть до его кончины (в 1994 г.). Также он остался другом всей нашей семьи…
«Как назло», Марленка в юности была дьявольски обаятельна, парни в неё влюблялись, она, и не желая того, их очаровывала своими серо-голубыми умными и ясными глазами, всей девичьей свежестью и статью, и они за нею увивались. Не избежали её чар ни Юлик Даниэль, проучившийся на харьковском филфаке весь свой первый курс, но женившийся на её подруге Ларе Богораз, которую и увёз в Москву… Ни Марк Богославский, с которым они вели долгую переписку в стихах, озаглавленных столь длинно, что название сокращаю: «Разговор в стихах и прозе… о поэзии и о позе». Там было и откровенно любовное: «Аэлита моя, Аэлита…», ставшее образцом для моего ученического подражания…
Девичья прелесть моей сестрёнки навеки запечатлена в таком её стихотворном портрете:
Борис Чичибабин
Твои глаза светлей и тише
воды осенней, но, соскучась,
я помню волосы: в них дышит
июльской ночи тьма и жгучесть.
Ну где ещё отыщет память
такую грезящую шалость,
в которой так ночное пламя б
с рассветным льдом перемешалось?
Такой останься, мучь и празднуй
своё сиянье над влюблённым, –
зарёй несбыточно-прекрасной,
желаньем одухотворённым.
1950
Не забыть мне и охапок сирени, которые таскал к нам на 6-й этаж дома «Красный промышленник» тогда «початківець» (начинающий поэт) Юра Герасименко. Среди литературных спутников и друзей сестры память сохранила и Станислава Славича-Приступу — в будущем известного харьковского и крымского журналиста и писателя, того же Марка Айзенштадта (Азова), прозаиков Энерга Шелехова, поэта-переводчика и прозаика-сатирика Юлия Даниэля, литературоведа и школьного учителя Бориса Цимеринова и ещё многих…
Даже мои сверстники Володя Бурич (рыцарь русского верлибра), Володя Блушинский, подававший большие надежды студент-филолог, рано погибший от удара молнии, и мой друг Мирон Черненко, которому суждено было впоследствии стать одним из видных российских киноведов, — увлечённо общались с моей сестрой, бывая у меня. Её окружали смолоду и литературные подруги, среди которых назову Мару Габинскую, Ларису Богораз, Ольгу Семашко… Знала бы вся эта компания, что ей грозило в конце 40-х — начале 50-х годов, и какая могла ждать их всех непоправимая трагедия, если бы не…
Но об этом рассказ впереди.
Теперь, когда сестра уже года два как отработала учительницей в деревеньке Берестовеньке, дальнего Красноградского района нашей области, из доставленного незнакомым освободившимся зэком черновика отцовской жалобы нам стало известно, с каким пристрастием шили моим родителям «политическое растление студенческой молодёжи»…Как вдруг (сообщал отец генеральному прокурору) следовательские атаки прекратились. Отца и мать вообще перестали вызывать на допросы. На какое-то время вовсе оставили в покое. Потом снова последовал вызов, но к другому следователю: Рыбальченко. Тот предложил каждому подписать «Постановление о переквалификации обвинения»: ранее оно касалось всего периода самостоятельной жизни, начиная с первых эпизодов отклонения от «генеральной линии», и по самый арест в 1950 году. Теперь речь шла только о том далёком колебании в юности. «У меня словно камень свалился с души», — рассказывал мне отец в 1954 году на свидании…
Почему обвинение смягчили?
Родителям это так и осталось неизвестным. А вот нам… В 1994 году в Израиль с семьёй прибыл Марк Айзенштадт, к этому времени давно носивший литературный псевдоним Марк Азов. Он стал драматургом малых форм, мастером скетчей, эстрадных и телеэстрадных программ, писавшим (как правило, в соавторстве с В. Тихвинским) для А. Райкина, Ю. Тимошенко с Е. Березиным, других звёзд советской и российской эстрады.
Я поделился с ним загадкой внезапного и для меня необъяснимого облегчения напряжённости в делах наших с Марленой родителей — и он вдруг обнаружил свою, пусть и не слишком уверенную, но показавшуюся мне вероятной версию. При этом сослался (правда, предположительно: как ему помнилось) на источник своей осведомлённости. В качестве такового он назвал книгу Антона Владимировича Антонова-Овсеенко-сына «Портрет тирана». В то время Интернет делал свои первые шаги в мире современной информации, а я — тоже впервые — в пользовании компьютером. И книгу эту тогда обнаружить не сумел. Разыскал лишь теперь. И прочёл дня за три-четыре, получив много впечатлений. Самое сильное — от сходства моей и авторской оценок главного персонажа книги — Сталина. Как и автор, считаю его профессиональным уголовником, бандитом и убийцей по одному из главных его занятий в жизни. Верю в то, что он совмещал деятельность профессионального революционера-большевика с тайной службой провокатора в царской полиции, подобно тому, как таковыми были эсер Евно Азеф и большевик, соратник Ленина и глава думской фракции большевиков Роман Малиновский. Просто тем двум не повезло: их успели выявить проницательные коллеги — члены тех партий, которые эти провокаторы продавали. Джугашвили же, возвысившийся и получивший огромную власть в большевистском руководстве, успел после победы Советов в Гражданской войне основательно почистить архивы и изъять из них все порочащие его улики. Одна архивная бумага всё-таки была выявлена, но позже объявлена фальшивкой, что также возможно и так же ничего не доказывает. А вот сталинское упрямое препятствование изучению по архивам его ранней биографии — факт непреложный (например, запрет писателю М. А. Булгакову заниматься этой темой).
Абсолютная этическая неразборчивость фашистско-коммунистического Вседержителя, его великолепно раскрытая в «Портрете тирана» работы А. В. Антонова-Овсеенко-сына физиономия отъявленного негодяя, чемпиона мира в палачестве, дают мне и другим полное моральное право не допускать ни малейших сомнений в его (Сталина) полной аморальности.
Но что же пишет о харьковской студенческой истории конца 40-х — начала 50-х годов ХХ века Антонов-Овсеенко-сын? Вот найденные мною цитаты из последней, 3-й части его книги. Эта часть со злой иронией озаглавлена «Горный орёл», а глава, из которой я намерен привести цитаты, называется: «Тирану скучно стало». В ней сперва рассказано о «Молодежной террористической организации», которая «была создана Лубянкой в 1944 году из сыновей, загубленных Сталиным большевиков, их друзей и знакомых. Их было четырнадцать: Владимир Сулимов, его жена Елена Бубнова, дочь бывшего наркома, Юрий Михайлов — всего четырнадцать человек».
Цитируем далее: «Владимир Сулимов, сын расстрелянного старого большевика, председателя СНК РСФСР, вернулся с фронта инвалидом. Трое других подали заявления об отправке на фронт. Они учились (кино, медицина, физика, математика…) и работали. Михайлов тоже вернулся с фронта. Они собирались иногда, довольно редко, на вечеринки, беседы. НКГБ не мог упустить из поля зрения такую компанию.
Следствие курировал следственный отдел по особо важным делам НКГБ, но дело вело Мособлуправление: допрашивали следователи Малой Лубянки, а просматривали протоколы «наверху»… В 1944 году все, даже дети знали, что на Лубянке лучше «признаться»: в лагере хуже не будет, а расстреливали в тюрьме не всех…».
Иван
Но это пока не о Харькове. А вот и о нём: «Дело «Молодежной террористической организации» послужило эталоном. В 1948 году гебисты пытались создать групповое «дело» в Харьковском университете. Если бы не находчивость, если бы не отважное поведение ректора Буланкина, не миновать бы дюжине студентов, любителей стихов, тюремной доли. Но Хозяин пробавлялся не одними молодыми людьми. По его указке взяли в работу ветеранов ВЛКСМ, комсомольцев двадцатых годов. То были инициативные ребята. В биографии каждого можно было, при желании, отыскать случай, когда юноша поднял руку не за «ту» резолюцию или вовсе воздержался от голосования…
Заслуженных комсомольцев незамедлительно пропустили через конвейер.
Мобилизуя внутренние резервы, органы обратили внимание на толстовцев. При царе философские сочинения Льва Толстого замалчивали. При Сталине наступил прогресс. Последователей учения Толстого уничтожали целыми деревнями. Крестьяне исповедовали непротивление злу, — они отказывались брать в руки оружие. Их обвиняли в подготовке вооруженного восстания. И убивали. Так было в тридцатые годы, в сороковые. И в пятидесятые».
Конец цитаты.
Что в этой «харьковской» части сразу бросается в глаза? Во-первых, что события относятся, как сказано в начале цитаты, не к 1950 году, когда взяли наших родителей, а к 1948-му: на два года раньше. Но, может, они и начались раньше? В конце этой же цитаты речь уже о годах пятидесятых…
Заметно также, что нет ни слова о 150-летии местного университета, с перспективой которого эти события связывал М. Азов. Однако упоминание о роли в них ректора И. Н. Буланкина, причём в явно положительном, в применении к нему, контексте, имеется… Значит, Марк что-то знал дополнительно.
О высоких человеческих качествах Ивана Николаевича Буланкина мне известно по рассказам моих сверстников — студентов университета, — евреев или полуевреев, которых нарочито «срезали» на вступительных экзаменах уже в самом начале внедрения советского госантисемитизма под видом «политики выращивания коренных национальных кадров». Апелляционных комиссий тогда ещё в вузах не существовало, и жалобщики-абитуриенты шли к ректору. Как правило, он их внимательно выслушивал и даже помогал в положительном решении их судеб. Одно это по тем временам требовало мужества. С жалобами на необъективно выставленные при вступительных экзаменах оценки к нему обращались из моих друзей в 1948 г. — Володя Блушинский, в 1950 — Изя Маневич, кто-то еще. Во всех трёх случаях конфликт был решён в пользу жалобщиков.
В чём состояли «находчивость» и «отважное поведение ректора Буланкина», о котором пишет сын ленинского соратника по Октябрю 1917 г. — человека, в свое время арестовавшего Временное правительство и объявившего его низложенным? Сам автор своих слов не объяснил. Марк Яковлевич Азов-Айзенштадт говорил мне, будто ректор поставил перед высокими партийными органами вопрос о необходимости прекратить расследование, начатое органами госбезопасности в среде студентов университета по выявлению там «террористической организации». Мотив: это создаст неудобную обстановку перед предстоявшим вскоре 150-летием университета. Да, для такого поступка, учёный-биохимик, профессор, ректор университета и член-корреспондент Академии наук должен был обладать действительно отважным сердцем! И находчивым, деятельным умом. А мастерство тогдашних гебистов по устройству театрализованных судилищ стало тогда в стране «секретом Полишинеля»… Однако и находчивость, и отвага были при этом необходимы.
Чтобы нынешнему читателю показать обстановку тех лет, поделюсь воспоминанием. Как раз в дни ареста родителей я работал штатным старшим пионервожатым одной из харьковских школ, подшефной университету (или, наоборот, над ним шефствовавшей). Предстояла студенческая комсомольская конференция в университете, и райком комсомола поручил мне подготовить приветствие пионеров делегатам. Так что мне довелось какое-то время присутствовать в зале, где проходило заседание. Слово было предоставлено сотруднику облуправления МГБ (министерства госбезопасности). Офицер политического сыска стал рассуждать о необходимости укреплении политической бдительности. И в знак того, что «ох, рано встаёт охрана», рассказал: «органами» арестован студент истфака — за такое ужасное, контрреволюционное высказывание о повести Петра Павленко «Счастье»: «По ней (сказал студент) не поймёшь, в чём там счастье, а в чём — несчастье…».
Я тогда как раз прочёл эту повесть (или роман?) и про себя полностью согласился с тем студентом: герой произведения, израненный инвалид, офицер Воропаев в Крыму видит прибывшего туда (на Ялтинскую конференцию?) Сталина… Следует «просветлённое» (подхалимское!) описание Вождя как земного бога, внутренние тирады и клятвы в вечной верности к нему испытывающего телесные страдания полковника… Помнится, я в душе присоединился к меткой оценке студента: а в самом деле — где и в чём там счастье?! Но, конечно, помалкивал: малейшее возражение было подобно смерти.
У меня нет уверенности, что «ветераны ВЛКСМ, комсомольцы двадцатых годов», которых «взяли в работу» «по указке Хозяина», — это именно наши родители. Но то, что они соответствуют по своим объективным данным этой характеристике, для меня несомненно. Правда и то, что в их биографиях «можно было, при желании, отыскать случай, когда» они «подняли руку не за «ту» резолюцию или вовсе воздержались от голосования…».
В любом случае интересно было бы найти подробности того сюжета. Имея в виду, что, в отличие от таящей архивную правду России нынешняя Украина полностью рассекретила фонды бывшего КГБ на своей территории, я обратился за содействием к своему племяннику — украинскому правозащитнику Е. Е. Захарову — директору Харьковской правозащитной группы — преемнику тамошнего «Мемориала», к числу организаторов которого с гордостью отношу и себя. В то время среди энтузиастов этого общества была Г. Ф. Коротаева, много сделавшая для раскрытия ряда харьковских исторических тайн. Не последует ли кто-либо из нынешних энтузиастов её примеру? Племянник со мною согласен… Но где взять время для таких поисков? И потом, не исключено, что нужные документы не сохранились…
А вдруг сохранились? В надежде на то, что найдутся (в Харькове ли, в других местах) люди, которые смогут заняться поисками, я и описал этот исторический эпизод. Самому-то, в свои без малого 89 лет, с задачей не справиться. А вдруг кто-либо из читателей может пролить дополнительный свет на тогдашние события? Прошу сообщить мне всё, что знают, по моему электронному адресу: ra31fe@gmail.com
Феликс РАХЛИН, Афула