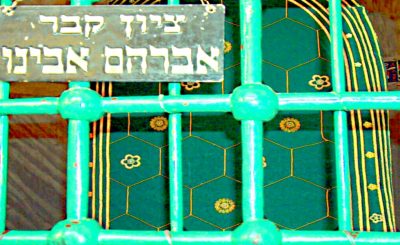Трибунал
В конце июля 1944 года 13-я армия, форсировав Вислу, захватила плацдармы на ее западном берегу и, удерживая их, готовилась к переходу в наступление. Начало его планировалось на середину августа. Немцы яростно атаковали, но на плацдармах сосредоточивалось все больше наших войск и техники. Наступление назревало. Случилось, однако, так, что конкретных данных о немецкой обороне раздобыть не удавалось. А скупые фотоснимки авиаразведки не раскрывали ни ее построения, ни оперативных резервов. Требовались языки, но все потуги войсковых разведчиков успеха не принесли. И в дело включили армейский разведбат. Под контроль его взял сам командующий 13-й армией генерал-лейтенант Пухов.
Командир разведбата выслал на передний край дюжину поисковых групп, но почти все разведчики либо погибли, либо вернулись ни с чем, кроме… Кроме тех, где группой захвата командовал сержант Галкин. Проникнув за передний край, его разведчики замаскировались в перелеске у шоссе и стали наблюдать за движением. И уже к ночи им повезло. В сопровождении бронетранспортера по шоссе двигался штабной вездеход. Галкин скомандовал, и опытные разведчики подорвали бронетранспортер, уничтожили солдат охраны. Вездеход с офицером взял Галкин. Им оказался полковник инженерных войск. Его быстро связали, уволокли в перелесок и стали подбираться к переднему краю.
Место перехода было согласовано, и, когда радист группы сообщил о готовности, артиллерия открыла огонь. Разведчики поползли по нейтралке. Как всегда, Галкин тащил на спине связанного языка. Но к своей траншее добрался лишь он. Остальные бойцы остались на нейтралке, сраженные то ли вражеским, то ли братским огнем.
Добравшись к своим, Фима перерезал веревки. Немецкий полковник встал на ноги и замычал. Хотел, видимо, чтобы Фима и кляп вытащил. Тот вытащил и рявкнул: «Геен, швайн, шнель, шнель!» — по мнению Фимы, это означало: «Иди, скотина, быстрее!» Но полковник, вероятно, обиделся и стал орать, не двигаясь с места. И тогда Фима его ударил… Он мне потом рассказывал, что прямо озверел, потому что потерял всех своих разведчиков, да и устал, ползая под огнем с этим полковником на горбу. А тут еще он идти не хочет. Кроме того, начал кричать на Фиму, обзывая его «ферфлюхте юде», то есть «паршивым жидом». Ведь понять еврейскую принадлежность Фимы было несложно. Ну и… Но удара Фима не рассчитал. И убил полковника!
Сержанта Галкина немедленно арестовали. Еще бы! Взять такого важного языка, доставить его к своим, потеряв остальных разведчиков своей группы, а потом убить. Ведь это означало, кроме всего, что опять придется посылать разведгруппы, язык-то необходим был позарез. А время поджимало: до начала наступления с плацдарма оставались считанные недели. Так что трибунал для Фимы был сущим подарком, могли ведь и сразу пристрелить.
Впрочем, и трибунал присудил его к расстрелу. Но, как велось в те времена, казнь заменили штрафной ротой. Что означало почти то же самое, что и расстрел.
Разведка боем
Штрафная рота 13-й армии комплектовалась солдатами и сержантами, приговоренными трибуналом к смерти. Вот и использовалась рота для выполнения заданий самых безнадежных и кровавых. Уцелевшие штрафники возвращались в свои части, если были ранены или проявили особую доблесть. Одного-двух боев хватало, чтобы роту обезлюдеть, и тогда формировали новую. Вот в новую и попал Фима. У него отобрали все награды, спороли сержантские лычки. И стал герой-разведчик обыкновенным штрафником.
А рота готовилась к разведке боем, которая должна была пройти ночью. Обычно же такие атаки велись в светлое время, чтобы засечь огневые точки на переднем крае обороны немцев. Но на этот раз решили попробовать добраться до первой траншеи. Затея, прямо скажем, вполне провальная. Потому что требовалось преодолеть немецкие заграждения и минные поля. А расчет был на то, что фрицы не ожидали такой наглости.
Рота развернулась повзводно и поползла по нейтралке. При освещении ракетами — замирали. Доползли почти до переднего края немецкой обороны и нарвались на минное поле. Когда стали рваться мины, немцы открыли шквальный огонь. От ракет стало светло как днем. Но штрафники ползли и, преодолев проволочные спирали, ввалились в первую траншею. Пошла рукопашная.
Ефим, как всегда, дрался малой лопаткой, которую заточил перед атакой. Прорубившись в блиндаж, он застал там штабного унтера. Скрутил его, выволок на бруствер, привычно взвалил на спину и пополз к своим. По пути был ранен в ногу, но не остановился. И приполз, хотя сапог был полон крови. Его встретили, отвязали немца. А Фима потерял сознание. Очнулся в госпитале. Там узнал, что от роты уцелело меньше десяти солдат — тех, кто был ранен неподалеку от своей траншеи, их вытащили потом. И все немедленно были из штрафроты отчислены и направлены в свои части, куда и прибыли после госпиталя. Были полностью реабилитированы. Ибо считалось: смыли кровью.
Ефим Галкин вернулся в свою разведроту и командир вдруг сообщил ему, что он представлен к званию Героя за тот бой. Потому что очень ценным оказался взятый им язык, почти единственный перед наступлением с плацдарма. Впрочем, представление дальше командарма не пошло. Он не утвердил: штрафника, мол, в герои? Спятили вы там, что ли? А если он такой отважный, то направьте этого Галкина на фронтовые курсы младших лейтенантов. А на представлении написал: «Достоин ордена Красного Знамени».
Как понимаете, приказ командарма был немедленно выполнен, и в марте 1945-го Фима прибыл на курсы. Но стать офицером не получилось, потому как война кончилась. Курсы расформировали, а поскольку предстояла еще война с Японией и никто не знал, сколько воевать придется, то курсантов побатальонно направили в разные военные училища. Так и попал Фима в наше.
Орден Красного Знамени Фима так и не получил, остальные отобрали перед отправкой в штрафроту, да так и не вернули. А было их у сержанта Ефима Галкина немало: ордена Славы 2-й и 3-й степени, Красного Знамени, Красной Звезды. И медали, естественно, в том числе награжден двумя «За отвагу», что бывало крайне редко. Фима начальнику курсов докладывал, пытался писать рапорты. Безуспешно. А теперь вот в училище оказался. Замполиту училища доложил. Тот пообещал разобраться, но сказал, чтобы сержант Галкин сам написал письмо прямо председателю Верховного Совета СССР товарищу Калинину. Мол, все награды оттуда идут, там учет имеется и там его дело решить могут быстро.
Но у Фимы с грамотешкой слабовато было. И вот подумал он, что такое важное письмо в такие верха написать правильно сумею я. Видимо, свою роль сыграла моя слава сочинителя высококачественных писем к заочным подругам курсантов. Поэтому и решил Фима все рассказать мне, надеясь, что я с этой задачей справлюсь.
Земляки
Но вместо ответа я спросил:
– Фима, а ты знаешь в Умани улицу Почтовую?
– Еще бы! Умань — город небольшой. Кроме того, наша улица была с Почтовой рядом.
– А на Почтовой была аптека. Ты случайно провизоршу Полину, там она работала, не знал?
– Ну как же! Тетя Поля, кто же не знал тетю Полю! Ведь в Умани аптек было всего несколько, и в эту мы ходили всегда.
– Фима, друг, а может, ты и Полину маму знал? Её звали Лея. Она жила на той же улице неподалеку от аптеки.
– Конечно, знал. Слушай, а ты откуда их знаешь? Ты что, бывал в Умани?
– Я там родился, Фима. Но потом отца перевели в Молдавию. А в Умани до войны я был один раз. Потому что Поля — моя тетя, а Лея — моя бабушка, мама моего папы. Но я так и не смог узнать, что с ними произошло в войну. А может, ты слыхал что-нибудь про них? Ты ведь был там, Фима.
И Фима сказал мне, что знает: они погибли страшной смертью в тюремном подвале.
Мы сидели с ним за казармой на развалинах старого забора. Было мне тогда 18 лет. Последние четыре года вобрали эвакуацию на Урал, голод и холод в этом неласковом краю. Так что нахлебался горя-кручины под завязку. И считал себя не мальчиком, а взрослым. Мужчиной себя считал, ответственным за младшего брата, первым помощником матери.
В августе 1941-го на фронте погиб отец. Но, даже когда похоронка пришла отцовская, не плакал я, нет. Хоть и ком в горле стоял. Стоял и душил меня, ком этот колючий. Нет моего папы. И не будет у меня отца. Такого большого, такого сильного и надежного. Убили его немцы, гады, подонки. Вот подрасту я немного и отомщу. Не души меня, ком в горле! Я за отца отомщу, я отомщу!
И я не плакал, нет. Дрался отчаянно, когда случалось, что кто-то оскорблял, жидом называя. И меня били нещадно. Кровавые сопли утирал. Но, если что — опять лез в драку. И самым любимым стихотворением моим было симоновское «Убей немца!». У него сказано:
…Так убей же немца, убей!
Так убей же хоть одного!
Сколько раз ты увидишь его —
Столько раз ты его и убей!
Нет, я не заплакал, когда похоронка пришла. Я наделся отомстить за отца.
А здесь, в училище, за казармой, с Фимой рядом — упал на землю. Забился в истерике. Кричал, бил кулаками, рыдал. Это Фима сказал потом, сам-то я не помнил. Он меня и от земли оторвал, и держал, не выпуская. Потом из фляги водой отпаивал. Из крана умывал, гимнастерку и брюки чистил. И утешал, утешал, говоря на идиш: «Вейн нышт, ингалэ, вейн нышт, абейтих, их об зей гешиссен, их об гекнат ди мердер» («Не плачь, мальчик, не плачь, прошу. Я их расстреливал, убивал этих палачей»). И по-русски просил: «Не плачь, земляк, не плачь. Я отомстил, клянусь — отомстил. Сколько мог — убил. Покалечил гадов — и фрицев, и местных — немало. Думаю, сотни две — не меньше. Считай, что и за тебя расплатился, земеля».
С тех пор не спускал с меня глаз Фима. Чтобы поближе быть, добился перевода в нашу роту, обменялся с нашим помкомвзвода сержантом Германом. И курсанты одномоментно всё поняли: Фима Шкаф — шутка ли! Меня и раньше не задирали, ради писем хотя бы. Но, глядя, как Фима после отбоя ко мне на койку присаживается, руку кладет на плечо, шепчет, сообщество курсантское выводы сделало немедленно и верно.
Был, правда, случай, когда один из фронтовичков «лихих» проехался насчет жидов — таких, как я: «Не воевал, мол, и ты, Абгаша, на 5-м Украинском Родину защищал». Я, как всегда, кинулся на него, получил под дых и упал. Когда очухался малость и встал — увидел Фиму, подходившего вразвалочку. Он не спеша взял правой рукой за шиворот обидчика. Приподнял и, держа на весу, тряхнул. Другой ладонью дал по уху и прошипел: «Тебе жизнь надоела, падаль? Я помогу, грязь окопная!» И швырнул его в проход между койками, так что тот пропахал полказармы.
Вечером командир роты капитан Сыроватский вызвал Фиму в канцелярию. Фима мне сказал потом, что говорили про меня и он доложил, что я его земляк. И что в Умани были убиты Фимины родители и сестры. И что там же в тюрьме задушили мою бабушку и тетю. И что он искалечит любого, кто меня обидит. Капитан Сыроватский приехал с фронтовых курсов вместе с Фимой, его историю знал и на вечерней поверке сказал, что сегодня в роте была драка и он требует от курсантов прекратить такое безобразие. И «такое безобразие» действительно прекратилось. Фиме ни разу больше не пришлось пускать в дело свою физическую мощь. Но мне он сказал, что не всегда же будет рядом, поэтому надо, чтобы я мог защитить себя сам — и так ответить обидчикам, чтобы они зареклись и другим рассказали, что не стоит со мной связываться. И он меня научит драться. Уж это он умеет. И хотя я меньше и слабее его, но смогу справиться с тремя…
Мы начали на следующий же день. Шли в спортзал, когда там не было занятий, сдвигали маты, и фронтовой разведчик с четырехлетним опытом войны учил меня драться. Учил настойчиво, заставляя много раз повторять приемы, все эти захваты, броски, нырки, удары руками, ногами, головой, использование подручных предметов и еще много чего, что теперь забыл я. А тогда — старательно осваивал, хоть и больно порой было, из сил выбивался, потом исходил. И конечно же, бросил бы эти занятия очень даже скоро, если бы… Если бы не Фима. Как мог я сказать ему «хватит», как посмел бы слабодушие проявить, слыша: «Нох йн мал; мы даф, мы даф шлуген; шлуг зей, шлуг фор дем тотэ, шлуг фор ди бобэ; кнак, кнак, кнак…» («Еще раз; надо, надо бить, бей их, бей за отца, бей за бабушку; удар, удар, удар…»). Этими возгласами, как командами, Фима сопровождал мои удары по боксерскому мешку.
Я видел, знал, чувствовал: Фима учил защищаться и нападать не чужого кого-то — он сына учил, своего сына готовил к бою. И я вставал после падения, собирал волю в кулак и бил, бил как мог сильнее, представляя себе, что дерусь с врагом, лютым врагом народа моего. Нет ему пощады, только месть. Не суждено мне было драться на войне, с оружием отомстить. Вот я сейчас делаю это. Удар! Удар! Сильнее, страшнее…
Эти уроки рукопашного боя продолжались почти полгода и завершились не потому, что был я готов. По мнению Фимы, надо бы ему еще было потренировать меня. Но — не судьба.
Марк Штейнберг
Продолжение тут





 (голосовало: 2, средняя оценка: 4,00 из 5)
(голосовало: 2, средняя оценка: 4,00 из 5)