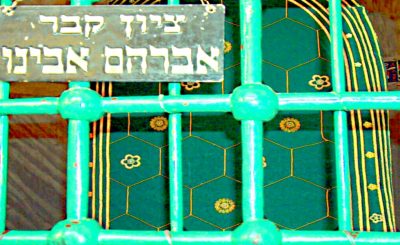Продолжение.
Продолжение.
Начало в № 880
Тяга к секулярному просвещению — хаскале — возникла у евреев многих европейских стран в начале 20-х годов XIX века после падения стен гетто, последовавшего в результате победных войн Наполеона. Тяга эта была подготовлена возникшим за более чем полвека до того реформистским течением в иудаизме. Эти веяния нескоро достигли российских евреев. Запертые в скученной «черте оседлости», они и помыслить не могли отступить от веры отцов. Как и их предки, продолжали они образовывать своих детей в иудаизме: с 5 лет — хедер (начальная школа), затем более серьёзное обучение в иешивах. Изучались Тора, Пророки, Писания (ТАНАХ), затем Талмуд. Обучение Талмуду давало определённые знания в математике и астрономии, в торговле и экономике, в сельском хозяйстве.
С момента получения Торы на горе Синай за 13 веков до Новой эры у евреев была всеобщая грамотность: современный еврейский язык — идиш и язык Торы и Талмуда — иврит. Только когда в 1874 году рекрутство было заменено всеобщей воинской повинностью и были введены существенные послабления, прежде всего, сокращение сроков службы для солдат со средним и высшим образованием, потянулись евреи к светскому образованию. Правда, и тут евреев снова жестоко «стеснили» — отменили право селиться вне «черты оседлости» по окончании службы. Тем не менее существовавшая в те годы тонкая прослойка еврейской интеллигенции и купечества стала отправлять своих детей в светские русские начальные и средние училища и даже гимназии, существовавшие в городах внутри «черты оседлости». Еврейская хаскала проникла в среду ортодоксальных русских евреев.
Испытывавший глубокую ненависть к евреям, царь Александр III, севший на престол после убийства в 1881 году его отца Александра II, посчитал недопустимым предоставлять евреям равное с русскими право на образование, и в 1887 году министр просвещения Делянов вводит для евреев процентную норму: 10 % — в «черте оседлости» (это при том, что евреи там составляли чуть ли не половину населения), 5 % — вне (для тех немногих, кто проживал вне «черты оседлости») и 3 % — в обеих столицах — в Петербурге и Москве. Через десятилетия Леонид Андреев назовёт это «шуткой самого дьявола! Мы всем народом старательно исполняли «танец дураков»… Насильственно уменьшали (процентной) «нормой» количество своих образованных и культурных людей» (сб. «Щит», М., 1916).
«В лучшем случае, молодой человек из евреев, не попавший под норму, при первой возможности уезжал за границу, — писал академик В. Бехтерев (сб. «Щит»), — обогащал за своё образование и материально, и духовно заграничные университеты, служа в своём лице невольным свидетельством государственного настроения собственной страны… Бывали случаи, когда невинные девушки для законного пребывания в Петербурге (чтобы обучаться на Бестужевских или иных курсах — С. Д.) добивались «жёлтого билета» (узаконенной проститутки — С. Д.) и подвергали себя позорной процедуре освидетельствования, где врач после осмотра целомудренной девушки узнаёт горькую истину о причине её явки на освидетельствование».
Вот что писал в 1913 году академик В. И. Вернадский (1863 — 1945) в статье «Мысли за океаном»: «Гонения и погромы, разорения и стеснения заставили их (евреев — С. Д.) тысячами семей двинуться в Новый Свет. И здесь, в Америке, особенно видно, какую огромную творческую созидательную силу потеряла Россия в безумной политике антисемитизма, в его диких формах, нашедших себе место у нас… мы потеряли часть того капитала, который история дала России и которым должны были уметь воспользоваться ее государственные люди… Может быть, не менее чем чисто экономически, потеряла Россия культурно — ибо евреи принесли сюда не только руки — они принесли сюда и привычку к работе, направленной не только к созданию материального богатства».
Солженицын думает иначе: «На эту государственную меру можно посмотреть с нескольких сторон… Для молодого еврейского ученика нарушалась самая основная справедливость: показал способности, прилежание, кажется, — во всём годишься? Нет, тебя не берут… А на взгляд «коренного населения « — в процентной норме не было преступления против принципа равноправия, даже наоборот (! — С. Д.)… процентная норма была обоснована ограждением интересов и русских, и национальных меньшинств, а не стремлением к порабощению евреев». И ещё: «… нужны правовые меры, которые уравновесили бы «слабую способность окружающего населения бороться» (с еврейской тягой к образованию — С. Д.). Не упустил Солженицын и другого «убедительного» довода в защиту «процентной нормы»: «вместе с умножением евреев среди студенчества заметно умножалось и их участие в революционном движении». Живший задолго до него поэт Саша Чёрный предлагал такую «правовую меру»:
«Чтобы школ не заражать,
Запретить еврейским жёнам
Девяносто лет рожать».
И всё-таки, — успокаивает нас Солженицын, — «несмотря на эту притеснительную меру, еврейская молодёжь всё равно вырастала в ведущую интеллигенцию». И выходит по нему, что уж и не так стеснительно было «стеснение» евреев. «Ко всему этому следует добавить, — пишет он, — что учебные заведения на еврейском языке — не ограничивались».
Не забыл Александр Исаевич и такой довод в оправдание «правовых мер» против евреев, как крещение: «Крещёных евреев на российской государственной службе был длинный ряд… Переход в христианство, особенно в лютеранство (не требующий регулярного посещения религиозной службы — С. Д.)… сразу открывал все пути жизни». Подумать только, — вздыхает Солженицын, — «какое приобретение это давало христианству? Многие обращения только и могли быть неискренними». Так и хочется продолжить его мысль: в Испании церковь здорово следила за еврейскими выкрестами — «новыми христианами». Их называли «маранами» (свиньями) и, чуть что — на костёр. А у нас в России всё пустили на самотёк: «Хотели как лучше, получилось как всегда».
А ведь прав Солженицын: перейдя в христианство, не порвали связи со своим народом ни физик Абрам Иоффе, ни дирижёр Юрий Файер, ни даже ставший профессором Петербургской духовной академии Даниил Хвольсон (1819 — 1911). Он активно боролся против «кровавого навета», написал глубокое исследование «О некоторых средневековых обвинениях против евреев» (1861 и 1880 г г.). «Книга поражает обширной эрудицией автора, безупречностью доказательств, сочетанием строгого академического стиля и прямоты, с которой этот христианин отстаивал честь и достоинство своих бывших единоверцев», — пишет Семён Резник в книге «Растление ненавистью: Кровавый навет в России» (Москва-Иерусалим, ДААТ/ЗНАНИЕ, 2001). Он же приводит и анекдот того времени: «Скажите, профессор Хвольсон крестился по убеждению или по принуждению?» — «Конечно, по убеждению. Он был убеждён, что получать профессорское жалование в Петербурге лучше, чем умирать с голоду в «черте оседлости!»
Вот ещё пример в пользу Солженицына. В старом здании Ленинградского политехнического института одна из больших аудиторий носит имя профессора математики Ивана Ивановича Иванова. В двадцатых годах прошлого века мой отец учился у него и много общался с ним неофициально вне стен института. При этом они говорили исключительно на идиш.
Продолжение следует