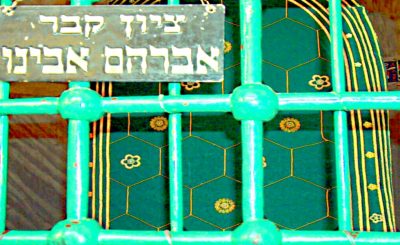Продолжение.
Продолжение.
Начало в № 880
Чем же занимались евреи, «густо» проживая в «черте оседлости»? Главным их занятием, считает Солженицын, было шинкарство. Это несмотря на утверждение Николая Лескова (о нём ниже), что «шинкарей (было) много менее, чем слесарей, пекарей и сапожников. Евреи столярничают, кладут печи, штукатурят, малярят, портняжничают, сапожничают, держат мельницы, пекут булки, куют лошадей, ловят рыбу. О торговле и нечего говорить».
Солженицын опирается на другой источник. Кто сегодня, кроме профессионалов-славистов, вспоминает поэта Гавриила Державина иначе как в связи с Пушкиным, которого он, «в гроб сходя, благословил»? Солженицын извлёк его из гроба через 200 лет, чтобы его именем обвинить евреев в спаивании русского народа, такого простодушного и доверчивого, про которого князь Владимир Красное Солнышко как бы и не говорил вовсе: «На Руси веселие есть пити». «Державин, — пишет Солженицын, — не только наш выдающийся поэт, но и незаурядный государственный деятель, оставил свидетельство уникальное и ярко изложенное». И действительно, ярко излагает поэт и незаурядный государственный деятель: «Жиды из своего корыстолюбия выманивали у крестьян хлеб попойками… Жиды, ездя по деревням, а особливо осенью при собирании жатвы, и напоив крестьян со всеми их семействами, собирают с них долги свои и похищают последнее нужное их пропитание» (Г. Державин «Мнение об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев». 1800 г.). И как нам после этого не поверить Александру Исаевичу, что «никакой исконной предвзятости к евреям у него не было».
Не единожды цитирует Солженицын служебную записку писателя Николая Лескова «Евреи в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу», 1884 г. Однако старательно обходит такие его слова: «Еврей во всей этой печальной истории деморализации в нашем Отечестве не имеет никакой роли, и распойство русского народа совершалось без малейшего еврейского участия при одной нравственной неразборчивости и неумелости государственных лиц, которые не нашли в государстве лучших статей дохода, как заимствованный у татар кабак» (выделено мною, — С. Д.). Всё же приводит более нейтральные слова Лескова: «В Великорусских губерниях, где евреи не живут, число судимых за пьянство, равно как и число преступлений, совершённых в пьяном виде, постоянно гораздо более, чем число таких же случаев в «черте оседлости». Поверим, что и у самого Александра Исаевича тоже нет «никакой предвзятости к евреям». Напомним ему слова Гоголя, вложенные в уста своего героя в пьесе «Игроки»: «Странно, отчего русский человек, если не смотреть за ним, сделается пьяницей или негодяем?» (Обратите внимание, Александр Исаевич, сам по себе сделается пьяницей, без каких-либо понуканий со стороны евреев — С. Д.). Продолжим гоголевского героя: «(Это) от недостатка просвещения… Б-г весть отчего! Ведь мы и просветились, и в университете были, а на что годимся? Ну чему я выучился? Ничему…» Как видим, ещё за сто лет до вас, Александр Исаевич, говорил Гоголь об «образованщине» и о русском пьянстве, говорил как-то без упоминания евреев. А уж как он нас ненавидел!
Жаль, не слышит меня Солженицын. Да что ему Гоголь, что ему Лесков. Он стоит на позиции Державина и утверждает: «… евреи стали незаменимым, деятельным и находчивым звеном в этой эксплуатации бесправных, неграмотных и изнурённых крестьян. Не прослоись белорусские селения евреями-шинкарями и евреями-арендаторами, — без них не наладить бы этой обширной выкачивающей системы, выемка еврейского звена обещала бы расстроить её». Как же так, Александр Исаевич, вы же только что сами приводили слова Николая Лескова о большем числе пьяных преступлений в губерниях, где не «прослоились» евреи между русскими селениями. Да и «выемка» отсутствующего «еврейского звена» не расстроила там беспробудного пьянства. Не иначе как патриотически настроенные крестьяне хорошо помнили слова Петра Первого: «Смерд, коий водки не пьёт, ничтожен, ибо державу в убыток вводит». Никак не могли они «ввести державу в убыток». В 1700 году Петр Первый издал указ праздновать Новый год с 1 января и строго предупредил, чтобы в этот день пьянства и мордобоя не учреждать: «на то есть другие дни». За полвека до того его отец царь Алексей Михайлович собрал в 1654 году «Собор о кабаках», на котором было объявлено: «Православным пить не более 180 дней в году». Уместно напомнить, что после того как в 1896 году в России была введена казённая винная монополия, доход от продажи вина составил в 1897 году 285 миллионов рублей, в то время как прямые налоги с населения принесли в казну только 98 миллионов рублей.
«Введение в конце 90-х годов казённой продажи питей в «черте оседлости», — пишет Солженицын, — лишило более 100 тысяч евреев их заработка… Именно с конца XIX века заметно усилилась эмиграция евреев из России». Так элегантно, одной фразой объяснив мощный рост еврейской эмиграции, он всё же не упустил подстраховаться, заметив, что «статистическую её связь с введением казённой питейной продажи не установить…» А мы-то, простаки, до сих пор полагали, что эмиграция из России более миллиона евреев в конце XIX века была вызвана волной погромов, прокатившейся по южным и западным губерниям после убийства царя Александра II в 1881 году. Спасибо, Александр Исаевич, просветили нас — недоумков. (Его уже, правда, нет…)
Призыв евреев на военную службу, а она продолжалась 25 лет, ввёл царь Николай I в 1827 году. До этого власти ограничивались взиманием с евреев двойной подати. Жестоким гнётом евреев отличалось 30-летнее правление Николая I (1825 — 1855). Солженицын нашёл ему «адекватное» выражение: «Николай I был по отношению к евреям весьма энергичен»…. «Однако личное вмешательство Николая I сказывалось далеко не всегда вредно для евреев», — уточняет он. И действительно, ну что вредного в налоге на ношение длиннополого сюртука (1844) или ермолки (1848), ведь не запретил же! Ах, всё же вообще запретил в 1850 году ношение еврейской одежды, так ведь это же на пользу евреям — чтобы не выделялись!
Что же касается введенной им 25-летней рекрутской повинности, так это легко объяснимо. Просто-напросто хотел «уравнять евреев с русским населением в несении государственных повинностей», — успокаивает нас писатель. «Когда русскому солдату напоминают, что только плохой солдат не надеется стать генералом, то рядом с ним стоящему в строю солдату-еврею прибавляют: «А ты, брат, жид — это тебя не касается» Н. С. Лесков «Еврей в России», 1884 г. (Москва, Мосты культуры», 2003»)
Ну, а то, что в рекруты брали 10 евреев из каждой тысячи, а христиан — только 7 и раз в два года, т. е. из двух тысяч, ну так кто считает. Кто считает, что евреев было 3 миллиона, а христиан — более 100 миллионов. Просто, — разъясняет нам Солженицын, — царь хотел «преобразовать обособленных евреев в обычных российских подданных, а если удалось бы — то и в православных».
Позднее он добавит, что царь «вознамерился отомкнуть еврейскую замкнутость и решить проблему слияния еврейского населения с прочим — через труд (ну прямо, как Сталин в ГУЛАГе 100 лет спустя — С. Д.), а к труду — через рекрутство, причём энергично усиленное» (выделено мною, — С. Д.). Усиление состояло в том, чтобы «за каждого не доставленного к сроку рекрута брать трёх рекрутов сверх недоимочного».
Тем же «указом 1827 года, — приводит Солженицын слова Ю. Гессена («История еврейского народа в России «, Л., 1927), — еврейским обществам было предоставлено по своему усмотрению сдавать вместо одного взрослого (18 — 25 лет) одного малолетнего», с 12 лет, т. е. с добрачного еврейского возраста. А «с 18 лет, — пишет уже сам Солженицын, — кантонисты переходили в обычную солдатскую службу» (ещё на 25 лет. — С. Д.). «Евреям же малолетним, попавшим в кантонисты, оторванным от родной среды, разумеется, нелегко было устоять под давлением воспитателей, — сочувственно замечает Солженицын. — Однако и рассказы о жестоко насильственных обращениях в православие… принадлежат к числу выдумок» (выделено мною, — С. Д.). Вот одна из таких «выдумок», рассказанная известным еврейским историком Шимоном Дубновым (1860 — 1941): «Обычный приём заключался в том, что вечером, когда все уходили спать, кантонистов ставили на колени и долго держали сонных детей в таком положении; согласных креститься отпускали спать, а несогласных держали на коленях всю ночь, пока те не падали в изнеможении. Большинство детей не выдерживало пыток и принимало крещение, но многие кантонисты переносили муки с героическим терпением. Избитые, исполосованные розгами, изнурённые голодом, жаждою, бессонницей, отроки твердили, что не изменят вере отцов. Такие упорные часто попадали в лазарет и умирали; лишь немногие оставались в живых».
В. А. Гиляровский («Мои скитания») приводит формулу «воспитания» кантонистов: «Девять убей, десятого представь!» Фактически в кантонисты попадали даже еврейские дети 8 — 9 лет, и погибало их много более 90 %.
Вспомним сцену, описанную А. И. Герценом в книге «Былое и думы». По дороге в ссылку из Перми в Вятку повстречал он партию кантонистов. «Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми — девятилетнего возраста, — говорит ему один из сопровождающих офицеров. — Половина не дойдёт до назначения». «Повальные болезни? — спросил я, потрясённый до внутренности, — пишет Герцен. «Нет, не то чтоб повальные, а так мрут, как мухи, ответил офицер. — Жидёнок, знаете, эдакий чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привык часов десять месить грязь да есть сухари… Опять — чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну, покашляет, покашляет — да и в Могилёв. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать? Я молчал. — Вы когда выступаете? — Да пора бы давно, дождь был уже больно силен… Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще кой-как держались… но малютки восьми, десяти лет… Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях с стоячим воротником. Обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами — показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без уходу, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу. И при том, заметьте, что их вел добряк-офицер, которому явно жаль было детей.»
Вот до какой степени был царь Николай I «энергичен по отношению к евреям». Но ещё больше поражает спокойствие, сухость, беспристрастность описывающего то время нобелевского лауреата А. И. Солженицына. Нет, это не строгая холодная академическая сухость вдумчивого историка, это почти нескрываемая юдофобия.
Продолжение следует