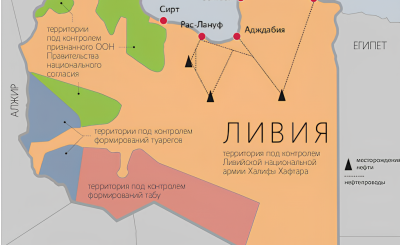В конце 1960-х я устроился переводчиком с английским и хинди в международный отдел ЦК КПСС, в котором меня впечатлили машина для чистки ботинок при входе и чудесная столовая с дефицитными, но поразительно дешевыми блюдами. Мне платили 3.50 в день, что было на 50 копеек больше, чем в КМО у Янаева.
КМО — это Комитет молодежных организаций, а на самом деле -международный отдел ЦК ВЛКСМ. Молодежь уже не знает, что такое ВЛКСМ: это сокращение от Волки Любят Кости С Мясом.
В ЦК партии также выдавали талоны на такси и бесплатно кормили и поили в «Октябрьской». Это была их секретная гостиница без вывески, находившаяся в переулке позади МИДа. Зато в КМО я таскал со столов на банкетах бутылки со спиртным и попался всего один раз… Но я, как всегда, отвлекся.
В первый день работы в ЦК меня посадили в машину и отправили в ЦКБ. До этого я такого сокращения не знал. Это оказалась Центральная кремлевская больница, расположенная в роще на Рублевском шоссе. Мне надо было переводить какого-то важного индийского коммуниста, находившегося в ЦКБ на излечении. С тех пор я в ЦКБ не был и не имел понятия, существует ли она после стольких лет. Я только что прочитал на сайте Би-би-си, что существует, и что в ней скончался мой однокашник Владимир Жириновский, с которым я был знаком почти 60 лет.
По официальной версии, Жириновский умер от ковида, который сейчас у меня. Еще нас сближало то, что мы оба были комсоргами курсов в престижном Институте восточных языков при МГУ (сейчас ИСАА), только Жириновский был на курс старше. Комсоргом курса на два года младше меня был Паша Познер, младший брат советского пропагандиста Владимира Познера, который пережил Пашу, а сейчас активно комментирует войну на Украине. Шутка.
В студенческие годы Паша меня вложил, но при капитализме мы встретились с ним в баре под трибунами стадиона «Динамо», и я его простил. Он изучал у нас тайский и к тому времени сделался доктором наук, а попутно владел заводиком, кажется, стекольным.
Возвращаясь к Жириновскому, мы познакомились в 1965 году, когда я был на первом курсе, и сошлись на слабости к общественной работе, хотя в тот момент были идеологическими антиподами: я был искренний комсомолец, а Жириновский был антисоветчик и избежал репрессий, как мне казалось, потому, что его держали за юродивого. Альтернативная гипотеза гласит, что с младых ногтей у него были шашни с гебней. Эта версия появилась гораздно позднее, а в институте его считали не стукачом, а скорее — дурочкой с переулочка, и не евреем, как впоследствии, а чистым русским.
Первым моим восточным языком был корейский. В моей группе училась Тома Карганова, впоследствии крымнашка, скончавшаяся несколько месяцев назад. Как и алмаатинец Жириновский, она жила в общежитии на Ленгорах и поэтому часто с ним пересекалась. «Ну ты и дурак, Вова!» — как-то в сердцах бросила она ему. «Как я могу быть дурак, если я отличник?!» — простодушно возразил ей Жириновский.
Он действительно учился, считай, лучше всех, и точно лучше меня: у меня была повышенная стипендия, а у него — ленинская. Поскольку никому не приходило в голову позвать его выпить, он просидел все шесть лет на Ленгорах и считал всех нас, москвичей, золотой молодежью, которая ездила на папенькиных машинах.
На самом деле машина была, по-моему, в семье лишь одного из моих однокурсников, но Жириновский все студенческие годы ощущал себя сироткой и мечтал нам отомстить. Такое впечатление, во всяком случае, я вынес из последующих с ним разговоров.
В нем клокотала энергия, которая выплескивалась на всяких диспутах, в эпоху хрущевской оттепели поразительно многочисленных. Жириновский нес на них антисоветчину, и мы ожидали, что его вот-вот заберет ГБ.
Я был поражен, узнав потом, — уже в Америке, — что его схватила турецкая сигуранца и посадила за коммунистическую пропаганду в зиндан, когда он работал в Турции переводчиком на стройке. Советское посольство наняло, по слухам, какого-то отставного генерала, который его быстро отмазал. Жириновский потом говорил мне, что турки загребли его за то, что он дарил рабочим значки с Лениным.
Но до этого мы с ними чуть не сделались в СССР телезвездами. В последние годы оттепели кому-то пришла мысль открыть на центральном телевидении дискуссионный клуб, чтобы молодежи было где безобидно пофрондировать. На его пилотное заседание, которое вела знаменитая Валя Леонтьева, пригласили группу социально активных студентов из нашего института, в том числе Жириновского и меня.
Жириновский наговорил такого, что первое заседание оказалось последним.
Как-то он позвал меня на демонстрацию против режима «черных полковников», проходившую у греческого посольства на Леонтьевском. В этот день у меня зародились сомнения насчет целомудренности его помыслов. Мероприятие началось мирно, но стремление похулиганить скоро возобладало, и мы стали швырять в посольство пузатыми восьмигранными чернильницами той эпохи, которые случайно у нас оказались. Мне показалось многозначительным, что милицейский полковник подскочил к Жириновскому и укоризненно сказал: «Мы же с вами договорились!».
В тот раз я промолчал, но в 90-е в лоб спросил у него, сотрудничал ли он с КГБ. Бесстыжий Жириновский ответил, что он бы с радостью, да они его не взяли.
Мы закончили ликбез одновременно, и я начисто забыл о Жириновском до конца 1980-х, когда он выплыл на общественную арену. Тут уж я, конечно, его разыскал и прилетел к нему домой в Сокольники с микрофоном и фотоаппаратом-мыльницей. Я сделал ею единственную в жизни фотографию, которую купил у меня глянцевый американский журнал. Фотография изображала момент, когда Жириновский доказывал мне, что он не еврей.
Дело было в самом начале 90-х, когда вопрос об этом вовсю обсуждали в России. Я, естественно, тоже задал его Жириновскому. Он сказал, что не еврей, и вызвался это доказать, не отходя от кассы. Встал на цыпочки, достал из шифоньера пачку старых фотографий и показал мне снимок отца, который, по его словам, доказывал, что он не еврей. Я заметил, что на снимке явно еврей. Ездить в Израиль на могилу отца Жириновский начал позднее.
Указанный вещдок я продал журналу «Вэнити фэр» за 700 долларов.

Когда мы были наедине, Жириновский цирка не устраивал, а звучал более или менее рационально. Однажды его занесло в митинговое шутовство, и я заметил: «Ой, Вов, когда-нибудь тебе таких п..лей накидают!». И как в воду глядел.
19 августа 1991 года, когда я прилетел в Москву на конгресс соотечественников, там грянул путч, и я помчался на Манеж с журналистом Андреем Мальгиным и своим другом Аликом Батчаном, который только что прилетел в Россию от «Голоса Америки» и удачно попал на революцию. Как и я.
В сторону «Метрополя» проползла длинная колонна БТР. У подъезда гостиницы «Москва» ее ревом встречала огромная толпа. Как вдруг из подъезда к народу вышел Жириновский с кучкой клевретов и начал агитировать за ГКЧП. Как я ему и предсказывал, толпа накинулась на него с кулаками. Я прыгал вокруг и бешено фотографировал. Клевреты затащили Жириновского обратно в гостиницу, где располагался его предвыборный штаб, и так спасли от линчевания.
Я рассказал об этой сцене Диме Макарову из «Аргументов и фактов». Дима, который учился у нас на арабском, о ней упомянул. Жириновский обиделся и сказал, что я исказил произошедшее, потому что по нему ни разу не попали. Я просмотрел свои снимки и ни одного контакта чужой руки с его головой действительно не зафиксировал. Я извинился и обещал ему голосовать за ЛДПР, незаполненный членский билет которой у меня имеется. Жириновский обещал выправить мне многократную въездную визу, но я так ее и не попросил.
В институте он не пользовался расположением девушек и женился на первой, которая ему дала. Ее звали Галина, и она училась в МГУ на геофаке, профессора которого потом съест мой лучший друг и однокурсник Юра Юров из персидской группы, подавившийся его глазом и умерший. «Я знал, что у вас перебои с мясом, но не знал, что такие», — не удержался я, когда мне позвонили в Нью-Йорк из Москвы и сообщили о Юриной смерти.
У Жириновского с Галей родился сын Игорь, который пошел по стопам отца и показался мне юдофобом. Я познакомился с ним в Нью-Йорке и снова увиделся в концертном зале гостиницы «Россия», когда прилетел туда праздновать 50-летие Жириновского-отца. Я упомянул о его семье, потому что в Москве меня постоянно спрашивали, не гей ли мой однокашник.
Тогда слово «гей» в России еще не привилось, они спрашивали, не «голубой» ли Жирик или не «пидор» ли. В институте его не считали ни геем, ни евреем, так что я не знал, что ответить, и поставил эксперимент.
В 1992 году я жил в Москве на Сивцевом Вражке в квартире, которую снимала американская журналистка Энн Уильямсон, и позвал к себе на проводы коллег: Мальгина с женой, Гришу Нехорошева и Сашу Шальнева из «Известий», однокурсниц Тому Карганову (которая выше назвала Жириновского дураком) и японистку Наташу Лулакову, прилетевшую из Нью-Йорка Лену Вайнтрауб и других привлекательных женщин.
Жириновский в ту пору ездил еще не на «Майбахе», а на какой-то советской машине, и не с толпой прихожих охранников, а с одним замызганным шофером, и был не таким важным, как впоследствии. Я позвал его как однокашника, но нажрался и решил испытать на сексуальную ориентацию, благо вокруг было несколько привлекательных женщин. Я обсадил ими Жириновского и начал наблюдать, поведется ли он.
Ни малейшей реакции!
Четыре годя спустя я прилетел в Москву на юбилей нашего института, состоявшийся в актовом зале МГА на Ленгорах. Я всегда был высокого мнения о своих однокашниках. Не считая путинского пресс-секретаря Пескова, чей отец, брешут, тоже учился у нас, на курс моложе меня. Другой мой однокашник, писатель Акунин, говорят, сказал в интервью, что коллектив ИСАА (бывш. ИВЯ) даже осудил войну с Украиной.
Поскольку Жириновский к нашему юбилею достиг в России головокружительных высот, он был на нем главным оратором и выступал в своем духе. Послушав его перлы, тюрколог Миша Мейер, который сегодня является президентом ИСАА, передал мне предложение тоже выступить на вечере в качестве противовеса Жириновскому, то есть светлого начала. Я лихорадочно начал соображать, как это сделать, но судьба распорядилась иначе. Дело было летом, стояла несусветная жара, а в зале не было кондиционера.
Перед тем как до меня дошла очередь, обалдевшие от жары ивяшники в изнеможении повалили к выходу, и торжество закруглили, не дав мне проявить себя светлым началом.
С тех пор я видел Жириновского десятки раз, в последний — в «Русском самоваре» под фото Бродского, после чего ему закрыли въезд в США. Его речи делались все отвратительнее, а в последнее время меня уже от них тошнило.


 (голосовало: 35, средняя оценка: 4,66 из 5)
(голосовало: 35, средняя оценка: 4,66 из 5)