Двух учительских зарплат, что получали мы с женой, на жизнь не хватало. Постоянно приходилось в конце месяца занимать. Как-то перед Песах я занял у знакомого пять рублей. Близился Шавуот (между Песах и Шавуот – пятьдесят дней), а я все не мог отдать долг. Меня это очень угнетало. Тут пришел счет за свет, жена дала мне пять рублей, и я отправился платить. По дороге я решил, что лучше нам пожить какое-то время без света, но вернуть долг…
С этого момента и закрутилось… Я вдруг вспомнил, что еще раньше одолжил пять рублей у другого человека, и поехал отдавать ему. В трамвае я подумал: тот, кто дал в долг позже, может обидеться, а этот, который раньше, наверно, нет. Я сошел на полпути с трамвая и пошел к тому, кто мог обидеться…
Дверь мне открыл … милиционер. Впустить – впустил, а выпустить – не выпускает. В квартире все вверх дном, полно милиции – идет обыск. Меня повели ко мне домой. А у меня под кроватью лежал сверток с облигациями Государственного займа…
Тут, по-видимому, требуется объяснение.
Займы, когда государство берет в долг деньги у своих граждан (только сейчас заметил, что в истории моего ареста все завязано вокруг займа и долга!), практикуются в разных странах. Облигация – вроде расписки, которую государство выдает заимодавцам. В ней указаны срок возврата и проценты, с которыми сумма будет возвращена.
Практиковалась такая система и в Советском Союзе. Но заем «по-советски» представлял собой хитрый трюк. Во-первых, облигации приобретались принудительно, а не добровольно, ежегодно – на сумму месячного заработка. Уклониться от этого было нельзя. Во-вторых, погашение займа, то есть возврат денег, предстоял в неопределенном будущем.
Правда, для утешения владельцев время от времени облигации «разыгрывались» как бы в лотерею. Кто-то, случалось, и выигрывал.
И возврат, и выигрыш были сомнительны, а люди постоянно нуждались. Поэтому они старались продать «принудительные» облигации, пусть даже дешевле стоимости. Но торговать облигациями закон запрещал.
Облигации принес мне и попросил спрятать один знакомый – пенсионер Моше Народович. Пенсии на жизнь не хватало, и он из каких-то своих расчетов скупил по дешевке большое количество облигаций, но держать у себя боялся. У меня же, он был уверен, искать не станут:
– Если что случится и все-таки найдут, скажешь, что это мои, – и написал на одной облигации свою фамилию.
Жена была против:
– Ицхак, я боюсь!
– Чего ты боишься? – успокаивал я. – Мы же ничем таким не занимаемся, у нас искать не будут.
Естественно, при обыске эти облигации тут же нашли. Когда спросили, чьи они, я сказал – мои. Думал, Народович человек пожилой, ему арест перенести труднее. А я как-нибудь выкручусь: учитель все-таки, и репутация у меня неплохая.
Меня арестовали. Было это как раз накануне Шавуот.
Следующий обыск произвели ночью (дети проснулись, расплакались). Жена, предвидя его, сожгла все, что ей казалось подозрительным. Так пропало много дорогих для нас, а может, и не только для нас, фотографий и писем. Началось следствие. Каждый раз перед допросом меня ставили в маленькую, как телефонная будка, камеру. Спустя несколько минут я уже чувствовал, что задыхаюсь, вот-вот умру… В последний миг меня оттуда выволакивали и вели к следователю. (Потом о таких пытках я читал у Солженицына.)
Помню имя следователя – Старовер. Он кричал на меня:
– Нет угла, где торгуют облигациями, которого бы я не знал! И тебя там ни разу не видел! Признавайся, чьи они?
Я отвечал:
– Мои.
Допросы были мучительные. Недаром говорят заключенные: полчаса у следователя – как год в лагере. Когда меня привели на допрос в первый раз, там сидело человек пять. Заговорили они вовсе не об облигациях:
– Мы знаем, ты человек верующий. Объясни нам, что это за Б-г такой. У русских он один, у татар – другой, у евреев – третий. И все говорят, что их Б-г – самый правильный. И вообще – как можно в него верить? Вот мы боремся с религией, закрываем церкви и синагоги. Что же он не вступится, если он есть? Где же он?
А потом и вовсе сменили тон:
– Знаешь что? Мы сейчас не следователи. Просто люди, товарищи. Сидим, разговариваем, никому ничего докладывать не собираемся. Докажи нам, что есть Б-г!
Я задумался: говорить или нет? Я чувствовал какой-то подвох. Вдруг они собираются использовать мои слова против меня? Ведь это очень может быть! Что облигации? Облигации – ерунда! Ну, осудят на пару лет. А вот если добавить обвинение в «религиозной пропаганде», дело станет посерьезней.
Один следователь, еврей, не задавал никаких вопросов, а сидел молча, но как–то напряженно. По лицу я понял, что ему трудно видеть эту игру. Внезапно он вмешался:
– Знаете, товарищи, мы его не изменим, и он нас тоже менять не хочет. Давайте говорить о деле, – и прервал «дружескую» беседу.
Только тогда я осознал, насколько это было опасно.
Прошло время. Как-то меня вызывают на допрос к этому следователю, Пиндрус его фамилия. Он говорил со мной очень доброжелательно, спросил, чем можно помочь. Я сказал:
– Жена сидит без копейки, а мне в школе положена зарплата. Дайте указание, чтобы ей быстрее выдали деньги.
И он это сделал.
Народович услышал, что меня взяли, пришел в милицию и заявил, что это его облигации, полагая, что меня сразу отпустят. Но вышло только хуже: меня не отпустили, а его посадили, да еще и оформили дело как «групповое преступление», а за это, сами понимаете, полагался больший срок.
Потом был суд. Год пятьдесят первый – самое время сталинских репрессий и антисемитских кампаний, так что свое я получил. Отсидел я два года и вышел по амнистии.
Арестовали отца накануне Шавуот, вышел он из лагеря тридцатого нисана. В этот день он всегда надевает талит своего отца и дает нам, своим детям, благословение.
Из рассказа рава Бснциона
ТЮРЬМА
Условия в тюрьме во время следствия были невыносимые. Сорок три человека в тесной камере, жара, спертый воздух и две открытые параши – большие ведра для отправления надобностей. Я стеснялся ими пользоваться на людях, ходил только ночью, когда все спали. В туалет выводили дважды в сутки: в шесть утра и в шесть вечера – и всего на десять – пятнадцать минут.
Уголовники приметили мое состояние, и когда нас выводили в туалет, нарочно занимали кабинки и сидели до последней минуты, чтобы я не успел войти. Оправка превратилась для меня в страшное мучение, я чувствовал, что погибаю.
Вскоре я заболел дизентерией. Десятого тамуза пятьдесят первого года – в субботу и день рождения моей дочери – я совершил омовение рук и хотел в честь субботы съесть кусочек хлеба. Но не смог проглотить ни крошки. У меня не было сил выйти на прогулку, и я просил, чтобы меня оставили в камере. Не разрешили. Я вышел, прошел два шага и упал…
Очнулся я в тюремной больнице. А придя в себя, узнал, что тут столько же шансов выздороветь, сколько подцепить что-нибудь новенькое. Диагнозы у моих соседей по палате были хуже некуда: открытая форма туберкулеза, сифилис, еще что-то страшное… Я поспешил вернуться в камеру.
Была еще проблема. Мне выдали одеяло, но я не знал, не «шаатнез» ли это (шаатнез – запрещенная для евреев материя из смеси шерсти со льном), и не мог им укрываться.
У моего русского соседа по камере было хлопковое одеяло. Я предложил ему поменяться.
– Зачем тебе?
Я объяснил, в чем дело. Он вскипел:
– Расстреливать вас надо! Из-за таких, как вы, мы не можем построить социализм! Кипел – просто ужас.
Через три дня его переводят в другую камеру. Он сам подходит ко мне с этим одеялом и говорит:
– На, бери!
Чего, спрашивается, он так подобрел? Не знаю. Все равно – спасибо.
А как быть с молитвой, с благословением после трапезы? В камере открытые параши, а молиться в зловонном месте запрещено. Надо отдалиться не меньше чем на четыре амот (четыре локтя). Пришлось на время молитвы накрывать одну парашу пиджаком, а вторую – пальто, чтобы запаха не было, а поскольку и это не очень помогало, искать в переполненной камере место, отдаленное от них на четыре локтя. Так я молился.
Про отношения с сокамерниками я уже говорил. Им-то, может, их выходки и казались смешными, но мне было не до смеха. Как-то принесли в камеру посылки из дому и дали карандаш расписаться в получении. Все расписались, надзиратель требует карандаш обратно, а карандаша нет!
Ищут-ищут – куда он пропал? Все показывают на меня, будто это я взял.
Надзиратель говорит:
– Жду пять минут. Не отдадите – камера лишается передачи на месяц.
Угроза угрозой, а оставить карандаш в камере он в любом случае не имеет права. Обыскали всю камеру и нашли… у меня, в моей постели!
Как они его подкинули – не знаю, на то они и мастера своего дела. Просто повезло, что тюремщики меня не наказали.
После вынесения приговора заключенных из тюрьмы переводят в лагерь. Со дня на день меня могли отправить неизвестно куда. Выручил рав Пионтак, «дер Тулер ров» – бывший раввин города Тулы. Если бы не он, не знаю, что бы со мной было.
Рав Пионтак сказал моей жене, что ведет переговоры с человеком, который работает в лагере возле Казани, чтобы меня перевели в этот лагерь. Переговоры затянулись, а результатов нет. Гита моя сообразила, в чем дело, добыла денег, и уже назавтра меня перевели в лагерь в двадцати километрах от Казани.
Тулер ров помог моей жене и в другом. Гита была новым человеком в Казани – всего пять лет в городе, и когда меня посадили, ей было очень тяжело. Все говорили: «Ее муж такими делами никогда не занимался. Это она виновата. У них тяжелое материальное положение, вот она и вовлекла его в эту аферу». Мне кажется, именно рав Пионтак прекратил эти разговоры.
Из книги «Чтобы ты остался евреем»




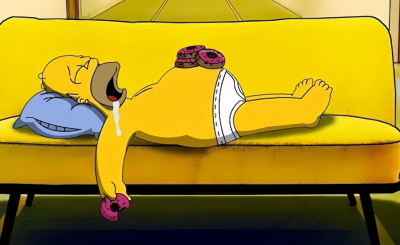
1. Как такое может быть что у нищего пенсионера при Сталине денег на жизнь не хватает, а на мешок облигаций хватило?
2. Зачем пенсионер хранил контрабанду у другого человека, а не у себя дома а еще лучше закопать в лесу? Ведь другой человек может донести куда следует или выдать Народовича под пытками. Чем меньше людей знает, тем лучше.
3. Почему Народович хранил акции у человека, у которого маленькие дети, которые могут играться этими бумажками и рассказать о них другим детям и взрослым?
4. Почему Ицхак Зильбер ни разу не упомянул в этом рассказе что он сам работал распространителем облигаций?
5. Зачем Народович хранил контрабандные ценные бумаги именно у бывшего распространителя этих ценных бумаг? Ведь у него в первую очередь искать будут.
6. Почему следователи выпытывали у Зильбера «чьи облигации», если они и так были подписаны фамилией Народовича? Это уж совсем полный абсурд.
7. Почему Зильбер сказал что у него искать не будут так как «мы ничем таким не занимаемся»? А как же тайное обучение детей иудаизму? Зильбер, работая учителем, никогда не писал в субботу. Это видели несколько десятков учеников и естественно знали их родители и все учителя. Соответственно, знали в НКВД. И естественно, за Зильбером наблюдали. Он, как умный проницательный человек, не мог этого не понимать.
8. Если Народович такой честный и альтруист, что сам явился в НКВД взять вину на себя, то зачем он подставлял Зильбера, храня не у себя а у Зильбра под кроватью свою контрабанду?