
Недавний интернетный обмен эссе между Александром Гордоном и Александром Баршаем на тему, является ли еврейским поэтом Осип Мандельштам, заставляет задуматься над вопросом: кого в принципе можно считать еврейским поэтом, писателем, деятелем культуры?
Понятно, запись в паспорте и даже наличие обрезания не свидетельствуют о принадлежности к еврейской культуре. Когда Иосиф Кобзон выводил своим мощным баритоном «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок», он песню Яна Френкеля на стихи Инны Гофф в лоно еврейской культуры не ввёл.
Думаю, нельзя сослаться и на язык. Это только усложнит проблему. Сейчас русский язык является родным более чем 20% евреев мира. На русском читают Маймонида, переведённого с арабского, пишут книги по иудаизму, и я знаю одну, Пинхаса Полонского, о религиозном сионизме рава Кука, которую перевели с русского на иврит и ввели в Израиле в курс школ. Сегодня на русском языке говорят и читают куда больше евреев, чем на идиш. Ещё сильнее запутывает проблему то, что многие группы израильских хасидов допускают использование иврита только для Б-гослужения и изучения священных текстов. А язык Древней Иудеи, арамейский, современными евреями в повседневной жизни вообще не используется.
Становится непонятным, почему один из диалектов немецкого, идиш, на котором говорит всё меньше людей, является еврейским, а русский, на котором общаются, читают и создают религиозную и светскую литературу миллионы евреев, еврейским не является.
Можно предположить, что отражение духовной жизни современных поэту евреев делает его поэзию еврейской. Эдуард Багрицкий в стихотворении «Происхождение» ярко описал свой уход от традиции евреев, характерный для многих его соплеменников-современников:
Я не запомнил — на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
…
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали —
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Все бормотало мне:
— Подлец! Подлец!..
Поэт сделал вывод:
Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье! Уходи!
Как большая часть евреев его поколения, как сын рабби — «последний принц в династии» хасидских цадиков из «Конармии» Бабеля, Багрицкий ушёл в революцию. Ему принадлежит самое красивое революционное стихотворение в советской поэзии:
…Не погибла молодость,
молодость жива!
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.
Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла…
Я никогда не понимал, что это за «содружество ворона с бойцом»: ворон на трупе бойца или его жертвы?
Восславил Багрицкий еврея, покинувшего местечко ради ответственной работы командира продотряда, в своей поэме «Дума про Опанаса»:
…По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище!
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
«Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!»
Ну а кто подымет бучу —
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!
Не мудрено, что «словно перепела в жите, Когана поймали». На расстреле командир продотряда держался молодцом. Всё же вызывает удивление мечта поэта:
Так пускай и я погибну
У Попова лога
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!..
Значимое совпадение: в том же 1926 году такой же конец придумал себе в стихотворении «Товарищу Нетте…» Маяковский: «Встретить я хочу мой смертный час так, как встретил смерть товарищ Нетте».
То была культура смерти и поклонения ей. В главной революционной песне большевики воспевали свою судьбу: «Смело мы в бой пойдём за власть Советов и как один умрём в борьбе за это». Умрут «за это» в 1937-м. Революционный экстаз Багрицкого, приведённый выше, взят из поэмы с соответствующим названием «Смерть пионерки». Да и Маяковский, написав поэму «Хорошо!», застрелился. Багрицкому повезло: он умер своей смертью 38 лет от роду в 1934 году. Его жену в 1937-м арестовали. В Караганде она ежедневно ходила отмечаться в контору НКВД на улице Багрицкого…
Красочную поэму об уходе евреев из гетто в «новую жизнь» — «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох» — написал Иосиф Уткин.
При царе Мотэле «думал учиться в хедере, а сделали — портным». Впрочем, «по пятницам Мотэле давнэл, а по субботам ел фиш». Пришли Кишинёвские погромы: «Всего… Два… Погрома… И Мотэле стал сирота». Но тут подоспела революция: «Мотэле выбрил пейсы, снял лапсердак». Он сделал карьеру: «Вот Мотэле — он “от” и “до” сидит в сердитом кабинете. Сидит как первый человек». Ну, понятно, «и Мотэле не уедет, и даже в Америку».
Однако воспой «товарищ Уткин», как назвал поэта в своём стихе Маяковский, Мотэле не в 1925 году, а в 1937-м, тот наверняка пожалел бы, что в Америку своевременно не смотался.
Доброе слово местечку в довоенной еврейской литературе нашлось в рассказе Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». В нём сталкиваются мир комиссарши, которой не удалось извести ребёнка и приходится рожать, и мирок еврея-рабочего Магазаника, заботливого отца большой семьи. «Товарищ Вавилова» оставляет новорожденного на евреев и идет дальше убивать врагов. Контраст между еврейской человеколюбивой моралью и новой коммунистической автору пришлось смягчить, хоть получилось — подчеркнуть, нелепым заключением: «Магазаник, глядя ей (комиссарше) вслед, произнес: “Вот такие люди были когда-то в Бунде. Это настоящие люди, Бэйла. А мы разве люди? Мы навоз”».
Как ни относились художники к миру местечка — с любовью к его человечности, как Гроссман, или отвергая, как Багрицкий и Уткин, — этот мир был обречён. Часть этого мира в начале ХХ века эмигрировала в Америку и трансформировалась в «янки», другая поднялась в Палестину воссоздавать Израиль, третья ушла в советские города. Оставшихся убил Гитлер.
Бард Александр Городницкий создал поэтичный фильм памяти мира местечек «В поисках идиш». В иных местечках, вырастивших в начале века гениев мирового масштаба, Городницкий мог найти лишь одного человека, понимающего идиш. И то нееврея. «Если умер язык, то, наверное, умер и народ, на нём говоривший?» — вопрошал бард.
Ситуация парадоксальная: стихи еврейских идишистских поэтов, убитых Сталиным 12 августа 1952 года, достояние еврейской культуры, канули в неизвестность. Евреи, читающие стихи, в массе не знают идиш, а знающие идиш хасиды не читают стихи светских поэтов. Популярны книги самого знаменитого идишистского писателя ХХ века, нобелевского лауреата Башевис-Зингера — но в переводах на английский, на русский, на иврит.
Однако народ, в начале ХХ века говоривший на идиш, и его культура не умерли. Их судьбу замечательно объяснил Мандельштам в эссе «Михоэлс», на которое ссылается Гордон: «Пластическая основа и сила еврейства в том, что оно выработало и перенесло через столетия ощущение формы и движения, обладающее всеми чертами моды — непреходящей, тысячелетней… Я говорю о внутренней пластике гетто, об огромной художественной силе, которая переживает его разрушение и окончательно расцветёт только тогда, когда гетто будет разрушено».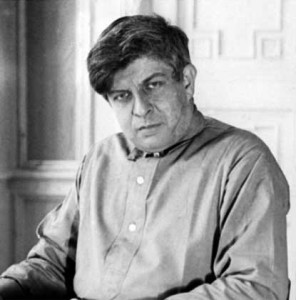
Я не согласен с тем, как понимает эту мысль Гордон: что «обособление народа прекратится, и он растворится в окружающей культуре». Евреи прошли через многие культуры, принимали и забывали разные языки и сейчас в Израиле вернулись к тому, на котором больше 33 столетий назад общались в пустыне со Всевышним. На всех этих языках евреи писали стихи. Благодаря «пластической основе и силе еврейства», позволившей «перенести через столетия ощущение формы и движения», о которой писал Мандельштам, евреи развивали в новом для них мире свою культуру, обогащавшую также местную для них в тот момент, и мировую культуру. Так, великая американская литература ХХ века — это в большой степени еврейская литература на английском. И книги Беллоу, Маламуда, Доктороу и других иллюстрируют мысль Мандельштама, что «еврею никогда и нигде не перестать быть ломким фарфором, не сбросить с себя тончайшего и одухотворённого лапсердака».
Поэтому мне представляется несправедливым утверждение Гордона: «Осип Мандельштам — большой русский поэт… Мандельштаму был не нужен еврейский народ. Еврейскому народу как таковому не нужен русский поэт Осип Мандельштам, искусственно присоединённый к нему в качестве национального поэта, творчество которого не внесло вклад в культуру еврейского народа». Национальным к народу поэта «искусственно» не присоединишь. Для этого он должен выражать квинтэссенцию народа или хотя бы части его. И Мандельштам её выражает.
Мне представляется, что Мандельштам — никакой не русский поэт. В нём я не вижу никакой русскости — ни в темах, ни в мировосприятии. И христианским его можно сделать, только насильно присоединив к нему, как делает Гордон, Пастернака — действительно русского и христианского поэта. Морально готовясь к подвигу публикации «Доктора Живаго», Пастернак в стихе «Гамлет» просто заговорил словами Иисуса из Евангелия: «Если только можно, Aвва Oтче, // Чашу эту мимо пронеси». Так ведь Борис Леонидович не лукавил, когда в знаменитом телефонном разговоре со Сталиным относительно арестованного Мандельштама в версии этого разговора, пересказанной поэтом сэру Исайе Берлину, он сказал, «что как поэты они совершенно различны, что он ценит поэзию Мандельштама. Но не чувствует внутренней близости с ней».
И действительно, Пастернак был патриотом России и Советского Союза, посвятил революции поэмы «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт». Сэр Берлин рассуждал: «Пастернак был русским патриотом — осознание своей собственной исторической связи со своей страной было у него очень глубоким… Это страстное, почти навязчивое желание считаться настоящим русским писателем, с глубокими корнями в русской почве, особенно было заметно в отрицательных чувствах к собственному еврейскому происхождению». В отношении Пастернака к Сталину было замешано и восхищение.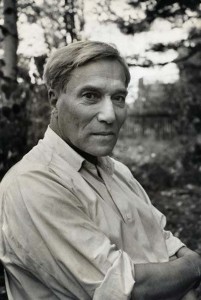
В героическом же стихе Мандельштама гениально выражено чувство его величайшего омерзения относительно тирана:
Его толстые пальцы,
как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
Это стихотворение, кроме еврейской мятежности и авантюризма — Мандельштам не был самоубийцей, но рисковал, что среди людей, которым он прочёл стихотворение, не найдётся доносчика, — также знак космополитизма поэта. Большевики на процессах 1937 года соглашались с поклёпами на себя, поскольку считали, что своей покорностью они служат интересам СССР. Эти интересы, как Бухарин объяснял, предвидя свой арест, незадолго до него Борису Суварину, символизирует фигура Сталина. Для Мандельштама же и эти интересы, и Сталин, и страна, которую он символизировал, были омерзительны.
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.
…
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.
Здесь важен и ключ Иппокрены (так, с двумя «п», писал Пушкин). Мир для Мандельштама — не Россия (особенно советская). Упоителен его гимн космополитизму:
Я пью за военные астры, за всё,
чем корили меня,
За барскую шубу, за астму,
за желчь петербургского дня.
За музыку сосен савойских,
полей елисейских бензин,
За розы в кабине ролс-ройса,
за масло парижских картин.
Я пью за бискайские волны,
за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок
и дальних колоний хинин…
Про то же в другом стихотворении:
Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли
и жимолости,
Правды горлинок твоих
и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках
марлевых.
А также:
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?
В том же ряду и «К немецкой речи», и его Италия, и особенно Древняя Греция.
Сталин был прав: евреи в большинстве — нация космополитов. По крайней мере, были такими до воссоздания Израиля. Пересеките земной шар от Манитобы до Австралии и от Биробиджана до Чили, и вы везде встретите еврейские общины. А если их где-то нет, то это потому, что нас оттуда изгнали.
А что же с еврейской культурой? Благодаря «пластической основе и силе еврейства», о которых писал Мандельштам, мы обновляем свою культуру на новом месте.
Ныне, когда мы обрели метрополию, еврейская культура зацветает в Израиле на иврите, который не использовался для этой цели тысячелетия. Но характерна и такая деталь израильской культуры, как исполнение оперы итальянца Верди «Набукко» об изгнании евреев в Вавилон в декорациях крепости Масады.
Возвращаясь к Мандельштаму, можно сказать, что еврейским поэтом делают его мировосприятие космополита и судьба преследуемого, изгоняемого мятежника, чужака, исполнившего главную заповедь еврея — отвержение идолопоклонства. В его поколении это был редкий подвиг, требующий от еврея жертвы жизнью. И Мандельштам такую жертву принёс. Это поднимает значение Мандельштама почти до религиозного — это высшая форма прославления Творца.



 (голосовало: 2, средняя оценка: 3,50 из 5)
(голосовало: 2, средняя оценка: 3,50 из 5)

