
Вся наша жизнь — это существование в промежутках между. Между юбилеями и панихидами, между удачами и провалами, между болезнями и здоровьем, между днём и ночью. Вообще, между рождением и смертью возникает пространство, когда человек вынужден подумать. А когда начинаешь думать, то рефлекторно хочется поделиться чем-нибудь с кем-нибудь, кроме самого себя...
Жизнь с годами заставляет тебя по инерции идентично волноваться по любому поводу. Запрет курения или надвигающийся кризис вызывают одинаковую тревогу. Надо дифференцировать уровень катастроф. Я много раз бросал курить, но ни к чему хорошему это не приводило. Возвращался обратно к пороку, пока сын, которого я слушаюсь и боюсь, не сказал: «Всё, хватит». И я год не курил. Пользы никакой. И меня навели на замечательного академика, предупредив, что он никого не принимает, но меня откуда-то знает и готов побеседовать. Я с полным собранием сочинений анализов мочи поехал куда-то в конец Шоссе Энтузиастов. Тихий особнячок, бесшумные дамы в белых скафандрах. Ковры, огромный кабинет. На стенах благодарственные грамоты и дипломы. И сидит академик в золотых очках. «Сколько вам лет?» — спрашивает. «Да вот, — говорю, — четыреста будет». — «Значит, мы ровесники».
Когда он увидел мою папку анализов, замахал руками: «Умоляю, уберите». Мне это уже понравилось. «Так, что у вас?» Говорю: «Во-первых, коленки болят на лестнице». — «Вверх или вниз?» — «Сильнее вверх». — «А у меня, наоборот, вниз. Что ещё?» — «Одышка». — «Нормально». — «Я стал быстро уставать». — «Я тоже. Всё у вас в норме». И я успокоился. Раз уж академик медицины чувствует себя так же, как и я, то о чём тогда говорить? На прощание я похвалился, что бросил курить. Он посмотрел на меня через золотые очки: «Дорогой мой, зачем? В нашем возрасте ничего нельзя менять. Доживаем как жили». Гений! А если бы он стал читать мою мочу…
Хоть какие-то недостатки
Были мы с Михал Михалычем Жванецким в Кёльне, в гостях на каком-то торжестве у наших друзей. Друзья очень богатые. Но эти богатые друзья никогда не могли себе представить степень заграничного безденежья своих знаменитых российских друзей. Поэтому сразу после банкета мы пошли в гостиницу относительно голодные и относительно трезвые. Сидя в номерах с грустными лицами, мы решали, что нам делать.
Было уже около часа ночи. Я сказал: «Не волнуйтесь, всё будет нормально». И отлучился. Через некоторое время я принёс в номер Михал Михалыча на подносе замечательное разнообразие еды — бутерброды, фрукты. Так как у нас с собой было, мы прекрасно поужинали. Когда меня потом спросили, где я нашёл деньги, я вынужден был объяснить, что настоящие жильцы элитных отелей, поужинав или позавтракав, выставляют недоеденное на подносах в коридор около своих номеров. Они схватились за животы, но я их успокоил: «Не бойтесь, надкусанных объедков я не принёс. Собрал только то, к чему не притрагивались».
Я пьющий. Меня Саша Володин — он тоже был глубоко пьющим человеком — научил когда-то: «Ты говори так: «Если бы мы не пили, у нас над головой возник бы нимб. Для того чтобы были хоть какие-то недостатки, мы пьём». Пить надо исключительно по зову организма. Алкоголизм — отрыжка безнаказанности. Борьба с алкоголизмом — это утопия, как коммунизм.
В своё время существовала банда друзей, которая хотела жить по возможности раскрепощённо: в быту, в загулах, в автомобилизме, в романах, в капустниках, в профессии. Никакой программы диссидентства никогда не было. Было только необыкновенное желание оставаться самими собой. При этом мы не забывали, где живём. Так, 7 Ноября и 1 Мая мы выходили на Красную Пресню. Каждый раз Марк Захаров это режиссировал.
Андрюша Миронов жил в Волковом переулке, за забором зоопарка. Его балкон висел прямо над вольером буйвола. Мы, уже нетрезвые, шли от зоопарка вверх по брусчатке, по стопам революционных рабочих, и пели «Пока я ходить умею». Маршрут был до площади Краснопресненская Застава, потом направо по Пресненскому Валу до Белорусского вокзала. На углу находилась пельменная. С нами ходил наш друг, ныне американский писатель Александр Червинский по прозвищу Червяк. Он всегда был больной, не хотел ходить, но хотел есть. Добравшись до Белорусского, мы говорили: «Всё, давайте заморим Червячка». Заходили в пельменную и на глазах у стоявшего напротив Горького пили водку под пирожки с повидлом.
Как-то, прощаясь после гастролей с Болгарией, мы с Андрюшей Мироновым и Марком Захаровым, совершенно бухие, стояли на горе Витоша и, вспомнив примету, сожгли лев — одну бумажку, чтобы возвратиться в эту страну. Через какое-то время мы с Захаровым записались в туристическую поездку в Париж. И нас сняли с трапа самолёта. Мы не могли понять, что произошло. Потом выяснилось: сняли за этот сожжённый лев. Кто настучал? Мы были втроём и гора. Андрюша — исключено. Мы с Марком Анатольевичем на себя тоже стучать не стали бы. Мистическая история.
Пить сегодня стали меньше, потому что надо успеть перебежать от одного заработка к другому за максимально короткий срок. А для этого требуется твёрдая поступь.
Уходящая натура
Я дожил до такого возраста и состояния, когда страшные сны заманчивее и радужнее действительности. В спектакле «Орнифль», в котором я играю, есть такой текст: «Господь отворачивается от людей старше семидесяти лет». Я старше семидесяти лет.
Преодоление старения — это такое кокетство с самим собой. Всё время думаешь: «Ну, ещё ничего, ещё ничего». До шестидесяти было ощущение, что обойдётся. А потом как прорвало… Наступает какой-то инфантильный маразм.
Сегодняшние старики судорожно пытаются вписаться в эпоху. «Не стареют душой ветераны…» Кому на… нужны эти души? Секонд-хенд. Старики должны сегодня ходить со счастливыми лицами, чтобы не настораживать молодёжь и не провоцировать Думу принять закон о добровольно-принудительной пенсионной эвтаназии.
Правда, есть другая опасность: могут ввести пенсионный возраст — девяносто пять лет.
У старости, кажется, только одно преимущество: в восемьдесят лет пожизненный срок выглядит как условный. Я в хорошей форме. С содержанием всё хуже и хуже. Старость — противная штука. Непредсказуемость недугов — смысловых ли, физических ли. Или мгновенная засыпаемость не тогда, когда надо.
Недавно пришла записка на вечере: «Вы очень хорошо сохранились. Дайте рецепт». Ответил: «Ой, ребята, если бы вы видели меня сегодня утром…»
Прочитал в газете совет кандидата каких-то стариковских наук, который рекомендует «проверять следующие основные биомаркеры старения: жёсткость стенок кровеносных сосудов, уровни гомоцистеина, гликированного гемоглобина в крови, показатели гормонов, регулирующих метаболизм: IGF-1, лептин, кортизол». Встаю с трудом утром и проверяю. Я ещё не хожу под себя, а просто плохо хожу. Перспектива развития. Почему-то первыми отказывают задние конечности, потом сигналы скользят вверх и через антипотенцию, брюшину и сердце добираются до головы.
Уходящая натура… Плохо ходящая натура и уходит медленно.
Я очень стесняюсь стареть. Когда мне осторожно говорят: «Может быть, вам помедленнее, может, поменьше, пореже», — я с саркастической ухмылкой отвергаю эти радостные сострадания, а когда остаюсь с собой наедине, понимаю, что и реже уже трудно.
Старость бесперспективна и нерентабельна. Смысл доживания — оправдать судьбу.
Огромность личности
Новый год. Страна, которая семьдесят лет металась между религиозностью и атеизмом, до сих пор толком не знает: 1 января он наступает или 13 января? Наши несчастные законодатели терзаются в сомнениях о количестве новогодних выходных дней. С одной стороны, с 1-го по 13-е многовато, но бюджетно выгодно, с другой – население к 3 января пропивает все деньги, а порой и имущество, и до 13-го бродит бомжеобразными тенями по стране. Единственная отдушина истерзанной плоти народа – «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Мой великий друг спасал родину от похмельного синдрома многие годы.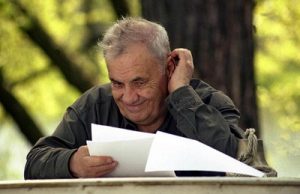
Все близкие Эльдара всю жизнь его «худели», не понимая, что это не жир, а огромность личности. Витиеватые диеты – собственноручно нарезанный винегрет (который он строгал в таз, ибо кто-то ему сказал, что винегрет можно есть тоннами), отказ от всех злаков, сладостей и алкоголя, что в нашей тогдашней, ещё довольно свежей богемно-дружеской компании было равносильно оскоплению. Когда воли, мужества и терпения не хватало, он ложился в заведение под ёрническим названием «Институт питания», хотя, кроме воды, никакого питания там не было. Я неоднократно навещал Элика в этом лепрозории, куда пускали выборочно, предварительно обыскав чуть ли не до раздевания, с мудрым подозрением, что визитёр может пронести страдальцу чего-нибудь куснуть или, не дай Бог, выпить. К чести пациентов нужно сказать, что, вырвавшись из застенков, они с ходу нажирались и напивались так, что потерянная в муках пара килограммов восполнялась с лихвой моментально. Очередная попытка Рязанова воспользоваться этой клиникой пришлась на конец декабря. Его выпустили перед Новым годом на несколько дней под расписку, взяв с него и близких честное слово о полной несъедобности существования. Я приехал к нему на Грузинскую, в квартиру, где он тогда проживал, поздно вечером. Он мне обрадовался и извинился за скромный приём: его родственники, не надеясь на нашу порядочность, вымели из дома всё, что хотя бы отдалённо напоминало еду.
Гостеприимный Элик влез куда-то очень глубоко, извлёк бутылку 0,75 шикарного коньяка и потом, глядя голодными, но добрыми глазами, наливал мне этот божественный напиток, говоря, что хмелеет «вприглядку». Закуска была пикантная, но странная – в вазе торчал цветок под подозрительным названием “калла”. За нежными и долгими разговорами я выкушал почти всю бутылку. Когда я стыдливо сказал Элику, что я за рулём, и, может быть, хватит, он уверил меня, что уже ночь, гаишников мало, и он даст мне японские шарики, которые напрочь уничтожают алкогольный запах. Доковыляв до руля, я двинулся в сторону зоопарка, чтобы оттуда переехать Садовое кольцо и попытаться доехать до своих Котельников. Раскурив трубку, я решил, что этого мало, и воткнул в рот ещё и сигару. Калловое послевкусие вместе с японскими шариками образовало во рту такой букет, что возникла опасность извержения, но я опытно сдержался.
Подъезжая по пустой ночной Москве к Садовому кольцу, я увидел, что из «стакана», очевидно, заметив нетрезвую походку моей «Волги», степенно вылез огромных размеров лейтенант и лениво, но грациозно поднял жезл. «Здравствуйте! – козырнул лейтенант. – Если нетрудно, выньте все лишнее изо рта!» «Ой-ой-ой-ой-ой…» – участливо пропел он, засовывая мои документы себе в карман. Ни приглашения в театр, что недалеко от места его работы, ни ссылка на мою популярность, ни осторожные намёки на денежную отмазку не подействовали. «Сейчас поедем на проспект Мира на освидетельствование. Запирайте машину. Где же это вы так?!»
Когда я признался, что навещал больного Рязанова, он внимательно посмотрел на меня и, перейдя на ты, сказал: «Врёшь!» «Не вру!» – «Врёшь!» – «Не вру!» – «Докажи!» – «Поедем!» Он посадил меня в люльку своего мотоцикла, и мы отправились к Рязанову. Уже полусонный, в пижаме, Элик очень радушно нас встретил, подтвердил моё алкогольное алиби и подарил лейтенанту свою книжку с трогательной надписью: «Замечательному гаишнику, простившему моего грешного друга». Мы вернулись на перекрёсток, и я на своей «Волге», эскортируемый лейтенантом на мотоцикле, дошкандыбал до дома. Так мой незабвенный друг своей неслыханной популярностью спас меня в предновогодье от бесправного автомобилизма.
Люся Гурченко
В спектакле «Чествование», который поставил Лёня Трушкин, герой, которого играл я, должен был умереть от лейкемии, и собирались все его жёны и дети. В конце спектакля героиня Люси Гурченко приходила к нему под видом сиделки, но потом скидывала с себя халат и парик: «Это я». И выяснялось, что это его давнишняя любовница. Лёня говорит: «Люся, тут придётся показать грудь». Начинается крик: «Я? Грудь?! Я не девочка!» Перерыв в репетиции, она ведёт меня за кулисы в самый дальний угол. Оглядывается – никого нет – и распахивает кофту: «Ну, как она?» «Сказочная», – говорю. «Поклянись». И потом Люся раздевалась в спектакле – проверив на мне качество. Когда Люся отмечала своё 70-летие, была масса телевизионных программ, а потом она собрала узкий круг самых близких друзей и в ресторане «Кино» устроила приём.
Маленькая сцена пятидесятисантиметровой высоты. У рояля сидел Лёва Оганезов. Люся в змеином платье с талией семнадцать миллиметров вела это застолье. Ходила от столика к столику и каждому из своих друзей говорила мини-тост – объяснение в любви. Шикарно, разнообразно, весело и трогательно. Обойдя всех, она вернулась на эту маленькую сценку и сказала: «И конечно, я не могу не поблагодарить человека, который дал нам возможность сегодня здесь собраться». И назвала имя – уже не помню сейчас – Ефим Львович Штундерблюм. Из-за дальнего столика встаёт абсолютно квадратный, с оттопыренными ушами, лысый еврей и, задыхаясь, ползёт к сцене. И не может влезть на эти подмостки. Люська спрыгивает вниз, чуть ли не на руках поднимает его к микрофону. Он говорит: «Дорогая Людмила Марковна! Для меня такая честь – помочь вам в ваш юбилей. Знаете, я старый ваш поклонник. Я же помню: когда я учился в первом классе, ваша «Карнавальная ночь»…» Люся стала таять, и чешуя поблекла.
Очень много домыслов и предположений, отчего ушла из жизни Людмила Марковна Гурченко: ах, старые раны, ах, сердце, ах то, другое, третье. У меня своя версия, и я думаю, что я прав. Люся никогда, а я с ней дружил каких-нибудь пятьдесят с лишним лет, не позволяла себе стареть, не умела стареть и боялась. Всегда – осиная талия, всегда — двадцать восемь лет. И вдруг она почувствовала приближение старости. Ей стало неинтересно, и она умерла.
Я могу набросать портрет поколения. Но зачем? Мне кажется, сегодня наш опыт мешает. В словарях типа Даля написано, что «на сто лет считают три людские поколенья». Так что у меня идёт конец третьего поколения.
Мы – моё и предыдущее поколение – как жили? Мы не знали, что такое деньги. Была зарплата и сберкнижки. На этих сберкнижках лежали мистические сбережения, в основном на чёрный день или похороны. Старички и старушки копили, чтобы их похоронили по-человечески. В остальном была коммунальная жизнь с кастрюлями борщей на неделю. То, что я ел при дефиците, я, стесняясь, ем и в изобилии. И считаю: носить нужно только то, что хочется, и старое. Деньги появились в моей жизни уже в конце второго поколения… Гениальный Перельман с авоськой молока и хлеба отказался от миллиона долларов не потому, что дебил, а потому, что вокруг дебилы. Стеснительная гордость…
У нас всегда было тёмное прошлое, жуткое настоящее, светлое будущее… Светлое будущее – где-то на горизонте, а он, как известно, удаляется по мере приближения.
Со времён Нерона, инквизиции, французской буржуазной революции или Великой депрессии мы ждём чего-то неслыханного и делаем вид, что стало лучше. Помню, как на телевидении снимали спектакль Театра сатиры «Безумный день, или Женитьба Фигаро» – милый, изящный, бездумно-музыкально-танцевальный спектакль о треугольнике любви, где Бомарше позволил себе в конце монолога Фигаро сказать: «Все вокруг хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично». Эту фразу вымарали на всякий случай, потому что могут подумать…
Не то Карякин, не то Афанасьев (не помню точно, кто из них, но оба Юрии, – я их очень любил и дружил с ними) сказал, что история с «шестидесятниками», все их прекрасные порывы – это было ускорение внутри прыжка. Очень образное и точное определение состояния того времени. А сегодня, когда все давно уже приземлились, народишко пытается ускориться после прыжка — тупик и бессмыслица.
Я очень устал от этой страны. Но, во-первых, я её целиком заслужил (целиком я и целиком её), а во-вторых, другой уже не предвидится.
Каждые полвека – ветер перемен. Обычно ветер перемен порывистый и мощный. Но ходить до ветру сегодняшних перемен надо дозированно и возрастно. А «пысать» против ветра перемен старческой струёй – чревато.
Перемены… В наше время человек на трибуне не мог оторваться от бумажки, а теперь несёт Бог знает что – без бумажки и очень грамотно.
Сейчас спи с кем хочешь, мужикам даже венчаться можно друг с другом. А раньше люди сидели за это десятилетиями. Помню, возвращаюсь в «Красной стреле» из Ленинграда и попадаю в СВ с актёром Фимой Копеляном. Сразу коньячок, начинаем трепаться – редко видимся. В коридоре стоят два стройных мальчика, один в одном конце вагона, другой – в другом. Стоят, в окошко смотрят, друг с другом незнакомы. Поезд трогается, они ныряют в одно купе, закрываются. Мы пьём, дружим. Я говорю: «Фима, подумай – люди предаются этой пагубной страсти, рискуя свободой. Фимочка, живём один раз. Надо успеть попробовать». Он говорит: «Шура, я не смогу, я очень смешливый».
Вчера тебя сажали в тюрьму за валюту, сегодня – пожалуйста, держи миллиардные долларовые счета. Вчера нельзя было купить и перепродать – сегодня на этом строится весь наш бизнес. Но как жить без идеологии, без чёткого государственного устройства? После того как мы решили освободиться от советского прошлого, мы ничего не создали, кроме эфемерных надежд. А вектора-то нет! И нет корней, потому что их всё время выкорчевывают. А теперешние саженцы крайне подозрительны.
Смысл нашей жизни заключался в том, чтобы не потерять себя в определённом узком кругу знакомых, близких, друзей. Этот узкий круг был достаточно широк. Но он был один. Сейчас время диктует корпоративную дружбу, ведомственную. Тусовки стали синонимом дружбы.
Я родился, жил, мужал, глупел и старился в стране Советов. Хочу посоветовать человекам: на все позывы организма – физиологические, половые, социальные и творческие – нужно откликаться молниеносно. Любое промедление – а не рано ли, не поздно ли, не страшно ли и так далее – наказуемо.
Александр Ширвиндт с женой. Фото: kulturologia.ru
Я никогда не начинал жизнь с чистого листа, потому что у меня его никогда не было. Всё время на листе было уже что-то напачкано, и приходилось начинать с середины. А это трудно. Кроме того, в том, чтобы каждый раз начинать с чистого листа, есть колоссальный эгоцентризм: всё отмести и начать сначала. А шлейф предыдущих испоганенных листов куда деть? Выбросить? Это надо иметь большую силу воли и бессовестность. Утомительная цельность – выгодное, но очень скучное существование.
Как говорил кто-то у Чехова и моя покойная нянька, все болезни от нервов. А нервы – это что? Нервы – это стрессы. А стрессы – это что? А стрессы – это жизнь. Поэтому я всю жизнь стараюсь себя обезопасить иронией. Но всё-таки с годами накапливается огромный запасник негатива. Поневоле что-то остаётся в осадке и уже не вымывается ни иронией, ни юмором, ни скепсисом, ни цинизмом. Это превращается в такую корку, которую не размочишь ничем.
Тот же Чехов в письме к Суворину восклицает: «Боже! Как я себе надоел». Присоединяюсь к гению и робко добавляю: «Боже! Как я от себя устал». Выбрал лимит вожделений, надежд и мечт.
Очень люблю своих детей и внуков. Правда, не хватило мне мужества, чтобы быть им душевно необходимым. Они относятся ко мне как к физиологической данности, без которой не проживёшь, а хотелось бы.
Сегодня счастье для меня – это суммарное ощущение сиюсекундного относительного благополучия. Знаешь, где находятся внуки в данную секунду – ура! Коленка не болит – победа! На сцену идти не надо – радость! Скоро на рыбалку, уже есть путёвка на Валдай – виват! И когда всё это соединяется вместе, думаешь: хорошо.
Ещё счастье – это когда возвращаешься после спектакля домой, ноги совершенно не ходят (в театре-то бегаешь – прикидываешься), выпиваешь пятьдесят шесть граммов, снимаешь все атрибуты, плюхаешься на кровать, вытягиваешься и – я высчитал – шесть секунд полного кайфа.
Так что всё время хочется дойти, раздеться, лечь и вытянуть ноги (слава Богу, пока не протянуть). Вернее, так: доехать или дойти и лечь, доиграть и лечь, допить, доесть и лечь, договорить и лечь, долюбить и уснуть. Вообще лежать в ногу со временем.
Никак не могу сформулировать для себя смысл земного пребывания: животное ли только начало или смысловое? И кто этот смысл не для амёб запрограммировал?
Смысл – остаться в веках? Или хотя бы в пятилетке после конца? Напротив Большого театра стоит памятник основоположнику. Его голова, как засранная голубятня, олицетворяет относительность бессмертия. Да и к чему оно? Всё равно, очевидно, не узнаешь ТАМ, состоялось бессмертие или нет. Да и что это за бессмертие, когда ты сдох? А если ТАМ что-то и кто-то есть, и ты будешь иметь возможность из-за черты новой оседлости наблюдать за земным бытом и услышишь, как вдруг о тебе разочек вспомнили после панихиды и, не дай Бог, повесили над подъездом дома табличку, что ты здесь был и даже делал вид, что жил, – как воспользоваться этим триумфом, не имея возможности лично скромно поклониться и положить два цветочка на открытии своей доски? А если ТАМ ничего нет, и ты этого не узнаешь, тогда вообще зачем?
Старикам иногда по утрам или при неожиданно удачном стуле мерещится хорошее настроение. И они надеются на искренность. К вечеру эти надежды рассеиваются. Нынче существует жёсткий регламент скорби – от минуты молчания до вечного огня. Так что, если о себе сам не позаботишься, пиши пропало. Планета Земля в начале XXI века живёт в стиле гламурно-кровавого шоу, поэтому уходить с неё надо радостно и с блеском. Ростки этого «жанра» возникли давно, аж в 50-х годах прошлого века. Был такой дико элегантный, бессмысленно-красивый, знаменитый чтец Всеволод Аксёнов. Он сам написал подробный сценарий своих похорон. Я был. Панихида в Концертном зале имени Чайковского имела огромный успех…
Умер Алеша Баталов. Мы никогда закадычно не дружили, но раз в десять лет, случайно пересекаясь на маршрутах кинотеатральных передвижений, бросались друг на друга и восклицали: «Боже, надо чаще видеться!»
«Что имеем – не храним, потерявши – плачем» – вечный исторически-менталитетный лозунг нашей родины. Сегодня новая головная боль – не только не храним, но и не знаем, где, за чей счёт и как похоронить. А уж об увековечить…
Материалы об ушедшем Баталове на денёчек вытеснили из всевозможных СМИ очередную фотосессию раскляченной в шпагате балерины на пляже в Майами. В газетах ханжески-слезливо умилялись дачей-сарайчиком Баталова в Переделкине, где он десятилетиями не мог выдворить со своего участка въехавшую туда баню соседа. И наконец, за неделю до кончины он узнаёт в больнице, что, кажется, суд начинает склоняться в его пользу и баньку снесут.
Ищем всем миром деньги на памятник Тане Самойловой. Несколько лет играли благотворительные концерты и спектакли, чтобы воздвигнуть на кладбище памятник Лёвочке Дурову. Денег нет. Кто поставил памятник Петру Первому в Льеже? Может, у него попросить?
Конечно, умирать надо вовремя, но как высчитать в наш меркантильно-прагматичный век, когда это вовремя, чтобы «благодарные» потомки тоже вовремя спохватились и поняли, кого они потеряли? Доски на стенах жилья, памятники на кладбище, названия улиц, пароходов, самолётов, огромное количество музеев-квартир и книги, книги, книги… Страшно, конечно, переборщить с просьбами об увековечении. Мне, например, не хотелось бы, чтобы где-нибудь на окраине Сызрани вдруг возник Ширвиндтовский тупик.
Я прожил жизнь под девизом: «Мы можем всё, нас могут все». В промежутках между этими позывами-призывами мы пытались оставаться людьми.
Александр ШИРВИНДТ. Из книги «В промежутках между» фото: Издательство «Колибри»; Микола Гнисюк; Лев Шерстенников; Андрей Федечко
Окончание следует






