
«И спросит Бог:
Никем не ставший, зачем ты жил?
Что смех твой значит?
— Я утешал рабов усталых — отвечу я.
И Бог заплачет».
Довлатов не кончается
«Все интересуются, что будет после смерти? После смерти — начинается история» — писал Довлатов в своих «Записных книжках».
В советской России Довлатова не печатали. В Америке у него вышло 14 книг. Тем не менее, настоящая «история» писателя Довлатова, парадоксальным, то есть, вполне довлатовским образом, началась не в Америке, а на родине, где книги его обрели, наконец, массового читателя. Феномену этому без малого 30 лет. Именно столько, сколько прошло со дня его физической смерти. За прошедшие три десятилетия клуб его читателей-почитателей рос непрерывно и экспоненциально, хотя книги его появились на литературном рынке новой России в условиях жесткой перестроечной конкуренции с лагерной прозой Солженицына, Шаламова, с книгами Платонова и других великих. Но соперничество с именитыми ничуть не помешало миллионам, тогда еще советских читателей, открыть и страстно полюбить «писателя русского зарубежья» Сергея Довлатова.
В XXI веке армия его читателей умножилась поколением родившихся уже после его ухода. Поколение это не знало ни идеологических, ни бытовых реалий мира «узаконенного абсурда», которыми изобилуют лучшие его книги: «Зона», «Компромисс», «Заповедник», «Чемодан», «Наши». А это значит, что в прозе Довлатова есть нечто большее, чем талантливая фиксация специфических примет своей эпохи. Есть в ней, и это внятно любому читателю, вещи безвременные и универсальные. Такие, к примеру, как великодушное снисхождение к человеческим слабостям, или, нескрываемая приязнь к людям (персонажам), независимо от их социального статуса, уровня интеллекта, или крепости моральных устоев. Как у Чехова… В том смысле, что, ненавижу пошлость, но жалею и люблю пошляков.
И даже о неприязненном отношении к коровам главного героя всех своих произведений, он же — alter ego автора, Довлатов пишет, как бы сомневаясь, а имеет ли он право на столь безапелляционное суждение: «…Есть что-то жалкое в корове, приниженное и отталкивающее. В ее покорной безотказности, обжорстве и равнодушии. Хотя, казалось бы, и габариты, и рога… Обыкновенная курица и та выглядит более независимо. А эта — чемодан, набитый говядиной и отрубями… Впрочем, я их совсем не знаю…».
Говоря о добродушно снисходительном отношении Довлатова к своим персонажам, нельзя не вспомнить о колоритнейшем из них — незабвенном Михаиле Ивановиче из «Заповедника». Тот самый, помните, который на вопрос, что привлекло его когда-то в его будущей жене, ответил незабываемой «нисходящей» метафорой: «А спала аккуратно. Тихо, как гусеница».
«Итак, я поселился у Михал Иваныча. Пил он беспрерывно. До изумления, паралича и бреда. Причем бредил он исключительно матом. А матерился с тем же чувством, с каким пожилые интеллигентные люди вполголоса напевают. То есть для себя, без расчета на одобрение или протест. Трезвым я его видел дважды. В эти парадоксальные дни Михал Иваныч запускал одновременно радио и телевизор. Ложился в брюках, доставал коробку из-под торта «Сказка». И начинал читать открытки, полученные за всю жизнь. Читал и комментировал: «…Здравствуй, папа крестный!.. Ну, здравствуй, здравствуй, выблядок овечий!.. Желаю тебе успехов в работе… Успехов желает, едри твою мать… Остаюсь вечно твой Радик… Вечно твой, вечно твой… Да на хрен ты мне сдался?..»
Кто еще мог с такой нескрываемой симпатией живописать этого пребывающего в стадии полураспада пропойцу и злостного неплательщика алиментов, чьи бредовые алкогольные откровения надо разгадывать как закодированные противником шифровки?
«Это был широкоплечий, статный человек. Даже рваная, грязная одежда не могла его по-настоящему изуродовать. Бурое лицо, худые мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругий, четкий шаг… Я невольно им любовался».
Или так беспощадно точно, с немного брезгливым, но жалостливым сочувствием к ее женской и человеческой заурядности, набросать портрет Лиды Агаповой, до идиотизма наивной журналистки из «Компромисса»:
«Резиновые импортные боты. Тяжелая коричневая юбка не подчеркивает шага. Синтетическая курточка на молнии — шуршит. Кепка с голубым верхом — форменная — таллиннского политехника. Лицо решительное, вечно озябшее. Никаких следов косметики. Отсутствующий зуб на краю улыбки. Удивляются только глаза, брови неподвижны, как ленточка финиша…».
Автор способен оживить эту нелепую женщину в импортных ботах, с юношески неутомимым пылом ищущей встреч с «интересными людьми», не только физически. Он необычайно проницательно читает ее мысли. Великолепно имитируя жалкое убожество ее внутреннего монолога, он без усилий видит не своими, а Лидиными глазами, как одеты молодые женщины на улице: «Вон как хорошо девчонки молодые одеваются. Пальтишко бросовое, а не наше. Вместо пуговиц какие-то еловые шишки. А ведь смотрится. Или эта, в спецодежде. Васильки на заднице. Походка гордая, как у Лоллобриджиды. А летом как-то раз босую видела. Не пьяную, сознательно босую. В центре города. Идет, фигурирует. Так и у меня, казалось бы, все импортное, народной демократии. А вида нету. И где они берут? С иностранцами гуляют? Позор! А смотрится».
Рассказы и повести Довлатова порождают «эффект присутствия» — иными словами, они «заразительны». Текст, как бы раскручивает себя сам, все больше «захватывая» читателя, причем, без каких-либо видимых усилий со стороны автора. И это, невзирая на то, что проза Довлатова интимно и пронзительно авторская, и, даже, в какой-то степени, исповедальная. Есть у Довлатова-прозаика еще одна особенность, которая — безошибочный признак настоящей литературы. Герои, включая самого автора-рассказчика, говорят тем языком, который обусловлен их социальным, культурным и географическим статусом. (Хорошим примером тут могут послужить монологи Михаила Ивановича и Лиды). А, значит, на уровне словаря, привычных оборотов речи, манеры шутить и даже материться, героев этих нельзя перепутать ни в одной сцене, где они «подают голос». Любой пишущий знает, что достичь достоверности в передаче прямой речи героев — это, с литературной точки зрения, самое трудное, а в смысле почти неизбежной фальши, еще и самое рисковое дело. Так вот, Довлатов, и в самых пустяшных своих вещицах, языковой фальши в диалогах не допускает. И это при том, что проза у него — откровенно диалогичная.
Однако, наиболее всего Довлатов славен своим неподражаемым чувством смешного, преобразующим гнусные будни «советского ада» в грустно веселую, обманчиво «простую», а на самом деле первоклассную, по-чеховски прозрачную прозу. Вот почему, даже у тех, кто никогда не жил в эпоху «развитого социализма», возникает при чтении Довлатова ощущение полной идентичности с его героями. А это еще один верный знак, по которому истинную литературу отличают от ее подобия.
Похоже, что Довлатов, будет до желудочных колик смешить не только наших детей, но и внуков, что указывает на прекрасную незавершенность его «истории», которой при такой уверенной устремленности в будущее, еще бесконечно далеко до «финального занавеса». Представляю, как брезгливо поморщился бы сам Довлатов, жестоко каравший собственных детей за «вкуснотища» вместо «вкусно» и «туалет» вместо «уборная», на пафосное «устремление в будущее», да еще «уверенное».
Возвращаясь к «истории» Довлатова, с радостью констатируем, что статус ее героя изменился драматически. Из «писателя русского зарубежья», пасынка отечественной литературы, он обратился в прославленного русского писателя, кумира нации. Книги его, дошедшие «до очагов миллионов», читают все, от самых высоколобых до самых простодушных представителей его народа, что называется, «от академика до его уборщицы». А высшей награды художнику нет и быть не может. И он это всегда знал.
Знал он и то, что успех уже на пороге. Но вряд ли мог представить себе всю культовую грандиозность его размаха. К примеру, мог ли он в самых нелепых снах увидеть себя в виде памятника, стоящего на Рубинштейна, при входе во двор дома, где он прожил большую часть своей жизни. Что открытие памятника придется на день его 75-летия. Что разнородная толпа людей, плотно заполнившая улицу Рубинштейна, что называется, «от стены до стены», будет медленно продвигаться от Невского к Загородному, чтобы каждый мог положить к его изножью цветы. В тот день было замечено небывалое количество фокстерьеров, не подозревающих, что хозяева привели их сюда, как дань памяти обессмерченной Довлатовым фокстерьерше Глаше, «расцветкой — березовая чурочка, нос — крошечная боксерская перчатка». Неизвестно, понравился бы он себе в качестве монумента, но тот факт, что его на следующий же день после открытия унесут на «доработку», наверняка порадовал бы его чисто довлатовским развитием сюжета. В тот день в ближайших кафе под легкую закуску бесплатно наливали желающим рюмку водки. Надо было только произнести пароль — «За Довлатова».
О нем снимают фильмы. Те из них, которые — художественные, ужасающе бездарны, но это не так важно, важен сам факт. У Льва Лурье вышел дивный путеводитель «Ленинград Довлатова», держа который в руках, автор этих строк добросовестно обошла все места своего родного города, где только ступала нога Довлатова. «По Довлатову», разумеется, проводятся в Петербурге и экскурсии. Самая экстравагантная из них называется «Пивной маршрут Довлатова». Он писал когда-то из Нью-Йорка, что, не задумываясь, может перечислить «все пивные ларьки от Пяти углов до Моховой улицы». Ларьки давно сняты, но в зоне шаговой доступности от каждого из них можно «помянуть» Довлатова кружкой пива. В двух других «главных» городах, прошедших через жизнь Довлатова, Таллинне и Нью-Йорке, тоже стараются не отставать от Петербурга. В Таллинне в конце августа, как и в Питере, проводятся «Дни Довлатова». А в довлатовские экскурсии по городу наверняка входят «Мюнди бар», где собутыльником Довлатова был «диссидент и красавец, шизофреник, поэт и герой, возмутитель спокойствия, — Эрнст Буш», и Кадриорг парк, где Буш познакомился с Галиной, одной из дорогих его сердцу «стареющих женщин». В 2014 году в Нью-Йорке, в районе Форест-Хилс, официально появилась улица (скорее, пешеходный проход) имени Сергея Довлатова — «Sergei Dovlatov Way». Добились этого местные жители — персонажи многих его произведений. Они и при жизни окружали «своего писателя» трогательной заботой и любовью. В неоднократно упомянутом на страницах его книг магазине «Моня и Миша», куда Довлатов даже зимой ходил прямо в шлёпанцах, и где любил покупать колбасу, с него не хотели брать денег. То же самое происходило в ресторанах, где он загуливал с прототипами «Иностранки».
Но все-таки самое невероятное явление пост-довлатовской «истории» имеет место в пушкинских местах Псковской области, прославленных им в «Заповеднике». В этом лучшем своем творении, где его протагонист как бы мимоходом занимается разрушением сладкозвучного «мифа о Пушкине», нарождается в наше время новая мифология — довлатовская. Экскурсоводов, привычно выводящих «группы» на «аллею Анны Керн», туристы стали озадачивать не относящимися к Пушкину вопросами. Например, такими: «А можно подойти к дому Михаил Ивановича, ну, в который собаки входили через дырки в полу? А ресторан «Витязь», где Довлатов с Валерой выпивали и портьеру сорвали, еще на месте?»
К слову, о знаменитом доме Михаила Ивановича. Еще в конце прошлого века его купила москвичка Вера Сергеевна Хализева, филолог-пенсионер: «Вы знаете, может быть, мне кажется, но у этого дома какая-то странная аура: в нем очень хорошо пьется. Вы не подумайте, что мы тут все алкоголики, но, если, допустим, гости приезжают или еще какой случай, удивительно хорошо сидится за столом». Она с удовольствием показывает всем желающим довлатовскую комнату. («Соседняя комната выглядела еще безобразнее…»).
Наметилась поразительная тенденция: приезжать в Пушгоры не к Пушкину, а к Довлатову. Сомнительно, однако, что Довлатову она пришлась бы по душе. Процесс мифологизации Довлатова дошел до того, что это становится темой диссертаций российских филологов. Но от мифа пора вернуться к самому Довлатову.
Он ценил, но не любил Америку, по меньшей мере, эмигрантскую, хотя и смачно воплотил (не в лучших своих книгах) ее веселый, пошловатый дух. «Я жил не в Америке. Я жил в русской колонии», — говорил он. За все двадцать два года он так и не сросся с приютившей его страной, и все это время мечтал о том, как вослед своим книгам вернется в мучительно любимый им город. Но вернется «богатым и знаменитым» — это было для него обязательным условием.
«Главное заключается в том, что эмиграция — величайшее несчастье моей жизни, и в то же время — единственный реальный выход, единственная возможность заниматься выбранным делом. При этом я до сих пор вижу во сне Щербаков переулок в Ленинграде…. От крайних форм депрессии меня предохраняет уверенность в том, что рано или поздно я вернусь домой, либо в качестве живого человека, либо в качестве живого писателя. Без этой уверенности я бы просто сошел с ума».
Он вернулся на родину, но вернулся только книгами, всего двух лет не успев дожить до пика своей всероссийской славы. Какая ужасающая нелепость, какая досада и жалость! Отчаянный недосмотр вышел у Всевышнего с Довлатовым. Но, как известно от самого Довлатова — «у Бога добавки не просят».
А мы вернемся ненадолго к «поколению нулевых». Ну, вот, навскидку, попробуйте «обкатать» на детях, внуках, новеллу из «Компромисса» — «Человек обреченный на счастье». Заказной репортаж о рождении четырехсоттысячного жителя Таллинна поручен журналисту местной газеты по фамилии Довлатов. Он должен «подобрать» в одном из тамошних роддомов наиболее публикабельного, то есть, «идеологически выверенного» младенца, из всех, родившихся в юбилейный день, и взять у его «счастливого отца» интервью. Презанятно, что появившийся на свет в тот самый день сын поэта Штейна, отпал по умолчанию еще до того как мать впервые приложила его к груди. Оказалось, что любую еврейскую фамилию, даже если она принадлежит только что вылезшему из утробы матери младенцу, нужно «согласовывать по начальству» каким-то специальным образом. Первым, более или менее «публикабельным» новорожденным, журналисту показался сын эстонки и эфиопа. Далее имеют место два диалога. Первый — между рассказчиком и врачом. Второй — совершенно поразительный — между рассказчиком и редактором.
— Ну, вот, — сказал он, — родила из девятой палаты. Четыре двести и
пятьдесят восемь сантиметров. Хотите взглянуть?
— Это не обязательно. Дети все на одно лицо…
— Фамилия матери — Окас. Хилья Окас. Тысяча девятьсот сорок шестой год
рождения. Нормировщица с «Пунанэ рэт». Отец — Магабча…
— Что значит — Магабча?
— Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится.
— Черный?
— Я бы сказал — шоколадный.
— Слушайте, — говорю, — это любопытно. Вырисовывается интернационализм.
Дружба народов… Они зарегистрированы?
— Разумеется. Он ей каждый день записки пишет. И подписывается: «Твой
соевый батончик».
— Разрешите мне позвонить?
— Сделайте одолжение. — Звоню в редакцию. Подходит Туронок.
— Слушаю вас… Туронок.
— Генрих Францевич, только что родился мальчик.
— В чем дело? Кто говорит?
— Это Довлатов. Из родильного дома. Вы мне задание дали…
— А, помню, помню.
— Так вот, родился мальчик. Большой, здоровый… Пятьдесят восемь
сантиметров. Вес — четыре двести… Отец — эфиоп.
Возникла тягостная пауза.
— Не понял, — сказал Туронок.
— Эфиоп, — говорю, — родом из Эфиопии… Учится здесь… Марксист, –
зачем-то добавил я.
— Вы пьяны? — резко спросил Туронок.
— Откуда?! Я же на задании.
— На задании… Когда вас это останавливало?! Кто в декабре облевал
районный партактив?..
— Генрих Францевич, мне неловко подолгу занимать телефон… Только что
родился мальчик. Его отец — дружественный нам эфиоп.
— Вы хотите сказать — черный?
— Шоколадный.
— То есть — негр?
— Естественно.
— Что же тут естественного?
— По-вашему, эфиоп не человек?
— Довлатов, — исполненным муки голосом произнес Туронок, — Довлатов, я
вас уволю… За попытки дискредитировать все самое лучшее… Оставьте в
покое своего засранного эфиопа! Дождитесь нормального — вы слышите меня?— нормального человеческого ребенка!..
— Ладно, — говорю, — я ведь только спросил…
Единственное, что может удивить в подобном сюжете представителей «поколения нулевых», не забывших русский, но взращенных в ортодоксии политкорректности, так это то, что в газете сходу «забраковали» наиболее «прогрессивный» на их взгляд вариант младенца: сына эстонки и эфиопа.
В крошечном шедевре в жанре «рассказа-анекдота», коротким отрывком из которого мы позволили себе украсить эти заметки, как человек в капле крови, виден уже весь Довлатов.
Через истерически смешные диалоги и ситуации, как бы мимоходом, невзначай, изнанка советского официоза о «дружбе народов» встает во всей ее омерзительно лицемерной сущности. Это и есть фирменный стиль Довлатова: привычное двойное существование всех без исключения советских граждан, независимо от их социального статуса, приоткрывается не назидательным прямоговорением, а исподволь. Через шуточки-смехуечки, отпускаемые, к примеру, алкашами в «стекляшке». О незаменимой роли дешевого портвейна, потребляемого в этих заведениях советского общепита, можно, используя в качестве аутентичного источника рассказы Довлатова, писать реферат. В нем же можно было бы упомянуть, что отвратительный оруэллский новояз, введенный когда-то в обиход новой властью, ни в какие едально-питейные заведения, как, впрочем, и в частные жилища советских граждан, категорически не допускался. Насущные проблемы местного и глобального характера обсуждались там на человеческом, органично разбавленном беззлобным матом языке.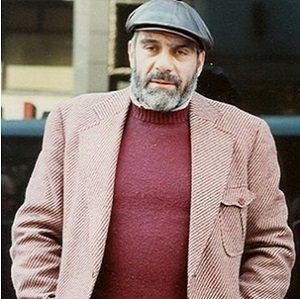
От редактора до журналиста, от заводского начальства до разнорабочего, от председателя райкома до орденоносной доярки — кафкианская сущность режима, заставившего миллионы людей жить в мире чудовищной лжи и привычного, как дыхание, двоемыслия, никогда не изобличается автором в формате пафосного развенчания порочной системы в целом. А лишь через прямую речь, мягко говоря, не самых положительных героев, и редкие вставки, где слышен печальный лирический голос автора-рассказчика — как уже было сказано, главного героя всех книг Довлатова. Перечитайте «Компромисс», как недавно сделал автор этих строк, и вы не сможете с ним, с автором, не согласиться. Впрочем, «Компромисс № 9», своей надуманностью напоминающий длинный несмешной анекдот, не грех и пропустить.
Пересказывая Довлатова, возникает страшный соблазн перейти на прямое цитирование, но поддаться ему нет никакой возможности. Ведь мы даже и не подступились еще к объявленной в подзаголовке теме «эпигонов и завистников».
Эпигоны и завистники
Есть закономерность: с ростом посмертной славы кумира растет число его «близких» друзей.
По смерти Довлатова настигла столь оглушительная слава, что армия мемуаристов из числа «его близких друзей» стала расти в геометрической прогрессии. И не только мемуаристов. Небывалый успех его трехтомника, того самого, митьковского, начала 90-х, породил среди пишущего на кириллице люда несметные полчища старательных его эпигонов. «Молодым дарованиям» почудилось, что достичь «эффекта Довлатова», а значит, и вожделенного уровня его популярности, до чрезвычайности просто. Пиши лаконично, отстраненно, беспафосно и смешно, — и будет тебе «щасте». Пиши смешно и смешное про нелепых и безвредных неудачников и изгоев, очутившихся в результате цепочки комических происшествий на обочине жизни. Наблюдение верное, хотя и не полное. Спору не выйдет, что писать, «под Довлатова» — это обходиться без нравоучений и жестких моральных оценок, приправляя отношение к происходящему добродушной иронией в смеси с усталым скепсисом. Такой подход обнаруживается по отношению к измышленным героям, нередко «списанным» с людей близкого ему круга, но в первую очередь, к самому рассказчику.
Непутевый, склонный и компромиссу, вместе с тем, интеллигентски рефлексирующий по любому поводу, а главное, всегда до крайности обаятельный, даже в многодневных запоях, загулах, и изменах, не говоря о более мелких промахах и неудачах — такой портрет рассказчика встает из большинства произведений Довлатова. Его можно несколько детализировать: очень высокий, часто — не очень трезвый, неотразимо действующий на женщин и легко уступающий их притязаниям, но всегда благородно сдержанный и вызывающе (в сравнении с плебсом, «нарастающая тяга» к которому преследовала его всю жизнь) вежливый.
Это alter ego автора, который простакам и эпигонам представляется точным портретом самого автора. На самом же деле, нужно отличать Довлатова — человека — от его литературного героя. В творчестве он, как и положено писателю, отшлифовывал себя и придумывал. Если достанет времени и места — поговорим об этом позже.
А сейчас, чтобы покончить с теми, кто пытается рабски подражать Довлатову, заметим, что просто смешить читателя — дело нехитрое. Но, кто из них сподобится перебить «смешное» такой вот пронзительной лирической вставкой: «Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы… От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил…».
Это финал упомянутой ранее «Зоны». Если у читателя, стонущего от смеха за минуту до финала, вслед автору тоже в этом месте «болезненно сожмется горло», значит, вы читаете прозу Довлатова. Повторить это нельзя. «Литературную школу» Довлатов не создал. Подражать ему, не становясь жалким его эпигоном, невозможно.

Переходя к завистникам, можно было бы сразу начать с самого заметного из них — Дмитрия Быкова. Но мы не станем торопиться, и доберемся до него, неспешно продвигаясь вперед методом последовательных итераций.
Для разгона напомним приговор, который выносит своему собрату по перу Михаил Веллер.
«… Я стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами …». По невыясненной причине, Веллер, вопреки своей же уверенности, что нет ничего легче, чем писать «как Довлатов», так и не начал этого делать. Так что, ни погонные метры, ни даже отдельные страницы благородной в своей изысканной простоте прозы, так никогда и не увидели свет под его именем. Взамен этого, Веллер не устает пугать российских граждан эсхатологическими страшилками, которыми в режиме какой-то нескончаемой кликушеской истерики заходится в ютьюбе. Когда-то он пытался выработать свой стиль, тон, свою особую манеру показывать грустно-смешные стороны жизни, но его «Хочу быть дворником», а, может быть, это были «Легенды Невского проспекта», читатели рекомендовали друг другу в убийственных для безмерно тщеславного автора выражениях, типа, «почитать можно, под Довлатова мужик неплохо канает».
Лишь речь зайдет о Довлатове, так злорадные интонации измученного чужой славой завистника выдают бедного Веллера с головой: «Он пил как лошадь и нарывался на истории… Он портил перо х…ней в газетах. И вот теперь он в Штатах, все его книги опубликованы. Но там это… никому он там не нужен». А чего стоит вот это чисто сальериевское откровение: «…После чего заквохтали наперебой. «Иностранка» и «Звезда», «Октябрь» и «Литературка»; его классифицировали как блестящего писателя, одного из лучших писателей, лучшим писателем русского зарубежья в конце концов назвали».
Еще при жизни Довлатова в «Огоньке» появилось интервью с ним, в котором он, на радость своим многочисленным сальери, четко обозначил границы своего дарования: «Я свое место знаю. Я — эмигрантский русский писатель в Америке; не из первых: но и не из последних. Где-то посередине. Есть высший класс в литературе — это сочинительство: создание новых, собственных миров и героев. И есть еще класс как бы попроще, пониже сортом — описательство, рассказывание — того, что было в жизни. Вот писателем в первом смысле я никогда не был — я бы назвал себя рассказывателем».
Узнав из этого интервью о невысокой самооценке Довлатова, Веллер в первый и в последний раз испытал к нему почти нежное чувство; по его собственному определению — «нотку печальной любви»: «Это было сказано с достоинством и скромно. Слава уже пришла. Я ожидал услышать (прочесть) иной ответ. И впервые ощутил к нему нотку печальной любви. Я был тогда стопроцентно согласен с такой самооценкой. Мне это понравилось до чрезвычайности. Я хранил эту любовь года два. Особенно она увеличилась, когда Довлатов уже ушел…».
А на самом-то деле, самооценка эта нисколько не низкая, а всего лишь — поразительно трезвая, сиречь, в точности соответствующая масштабу отпущенного Довлатову дара к созданию коротких новелл, рассказов, и повестей (но каких!) в жанре автобиографической прозы. У него был чеховский комплекс органической неспособности к созданию произведений «большой формы». Такого рода непредрасположенностью к написанию эпических полотен страдают многие писатели. Но признания, подобные довлатовскому, необычайно редки среди пишущей братии, в массе своей совершенно безосновательно причисляющей себя к «высшему классу в литературе». Результат этой завышенной самооценки, сиречь, самообмана — густо уставленные бесчисленными кирпичиками «современного романа» полки книжных магазинов, «где их никто не брал и не берет». Хотя, что мы можем знать. Бывает «уничижение паче гордыни». Из книги «Компромисс»:
— А правда, что все журналисты мечтают написать роман?
— Нет, — солгал я.
А вот еще один персонаж, старинный, еще по Питеру знакомец, мемуарист и завида в одном лице — Дмитрий Бобышев, издавший в нулевых унылый мемуар под претенциозным названием «Человекотекст: Я здесь». Это бесконечно тоскливое пойло, неумело сварганенное из зависти, сплетен, и нарциссизма. Зависть и сплетни обращены главным образом на Бродского и Довлатова. А обожание, натурально, на себя любимого: «Я здесь». «Я здесь». «Я здесь».
Главное творческое достижение автора мемуаров, если мы хоть что-нибудь понимаем в «людях и положениях», состоит в том, что он «увел» у опального тогда Бродского его возлюбленную. А также в том, что в свое время пребывал в статусе «ахматовской сироты № 4». Небогато. А вот стоило автору непотребного мемуара присесть в известной позе у ярко пылающего костра довлатовской славы, и отблеск его пал и на автора. Ведь читателю интересно решительно все, где даже мимоходом упоминается имя Довлатова:
«О женитьбе Сергея на «Тасе» мне сообщил Бродский, вернувшийся до срока из экспедиции. Он вдруг зашел и, как-то не церемонясь, поставил в известность, что позвал ко мне своего знакомого, о котором я, впрочем, уже был наслышан. Вскоре выяснилось, почему пригласил: этот приятель, известный плейбой, был, оказывается, на довлатовской свадьбе и, как уверял, сумел запереться с невестой (то есть уже с новобрачной) в пустующей спальне родителей. А разбушевавшегося по этому поводу жениха гости отвлекли водкой. Не знаю, что правда и что ложь, и кто выглядит лучше в этой истории, но Иосифа она, кажется, удовлетворила. Во всяком случае, в американской жизни он «простил» растоптанного Довлатова, принимал его похвалы и даже оказывал ему литературные услуги».
Каким же законченным мерзавцем надо быть, чтобы «не зная, что правда, а что ложь», тащить все это в подлую свою книжку, на чьих страницах дерьмом равномерно вымазаны все участники: и ныне благополучно здравствующая «Тася», и великие покойники, Бродский и Довлатов, по несчастию угодившие в главные герои «Человекотекста». И этот эпизод не исключение, а скорее, правило.
Ну, ничего. Сережа, когда дождется «там» автора «я здесь», расквитается с этим мелким сальеришкой по полной. Ведь у него всегда с собой, как раз для таких случаев, пара боксерских перчаток. Хотя… Противника можно отправить в нокаут и, не применяя к нему физического воздействия. Надо просто невзначай упомянуть о суммарных тиражах довлатовских произведений, переведенных на 36 языков мира, и автор книг, дочитанных до конца исключительно самим этим автором — вчерне готов.
Ну вот, мы и до Быкова добрались, наконец.
В отличие от завид помельче, Дмитрий Львович наделен неоспоримо выдающимися дарованиями, чуть не во всех областях гуманитарного творчества, кроме, пожалуй, писания романов, каковых у него, тем не менее, не сосчитать. Его достижения, как культуролога, критика, поэта, педагога-просветителя — широко известны и не требуют перечисления. Чтобы удостовериться, что Г-сподь сподобил Быкова не только завидной интеллектуальной, но и чисто человеческой, мужской харизмой — достаточно посмотреть его старое ТВ шоу под очаровательным названием «Тонкий мир толстого человека», где он из передачи в передачу оставался самым неотразимым из всех знаменитых российских толстяков перебывавших на его шоу.
Все это не помешало Дмитрию Львовичу быть изобличенным в одной более, чем странной особенности. Пользуясь непререкаемым авторитетом своего влиятельного имени, он не устает нахваливать авторов, которые, по самым различным причинам, не обрели «народной славы». И так же последовательно обругивает тех, чьи книги не только с наслаждением читаются миллионами, но и ими же многократно перечитываются.
Так Быков, обычно, выражает неуемный восторг при упоминании имен Андрея Битова, Виктора Ерофеева, Людмилы Петрушевской, и других, забыв об одном их общем свойстве: пишут они умнО, но при этом начисто лишены художественно-пластического дара, отчего их тексты «не забирают», а значит, количество читателей их претенциозно-многосложной прозы всегда будет оставаться маргинальным.
В 2015 году Дмитрий Львович опустился до того, что назвал «сверх-литературой» творчество Светланы Алексиевич, невзирая на то обстоятельство, что этой, в высшей степени, добросовестной, и в такой же безусловной степени, недаровитой женщине, литературный нобель за 2015 достался исключительно из конъюнктурно-политических соображений. Каких именно? Об этом Быков деликатно умолчал, хотя трудно поверить, что политизированный интеллектуал Быков пребывает в неведении по поводу того, что доступно нам с вами.
Иными словами, нельзя не заметить интригующую загадочность эстетических преференций одной из самых заметных (во всех смыслах) фигур российской культурной элиты.
Гениальный, еще не прочитанный миром роман «Пятеро» Жаботинского, Быков как будто в насмешку, полагает «переоцененным». Лучший русский роман ХХ века — «Мастер и Маргарита» Булгакова — хотите верьте, хотите нет — пошловатым.
И Довлатов — мертвый и без нобеля, но, по-прежнему раздражающе популярный, это соперник равный, это — серьезно. Вот поэтому настойчивые попытки Быкова «опустить» прозу Довлатова до «анекдота или байки — дембельской, морской или эротической», в расчет брать не стоит. Это акт самозащиты от магического обаяния более сильного противника. Быкову стоит почаще припадать к страницам романа Олеши «Зависть». Тогда заносчивому мэтру откроется, почему ничем, кроме нобелевской медальки, не обогатившая ниву изящной словесности Светлана Алексиевич, не может, в отличие от Довлатова, стать для него субъектом мучительной зависти.
Пять лет назад Быков буквально взорвал инет, с нехорошим задором отнеся творчество Довлатова к «суррогатной макулатуре для невзыскательного российского потребителя». В своем интеллектуальном высокомерии, Дмитрий Львович, не убоявшись упреков в антидемократизме, чуть не всю читающую Россию, обличает в дурновкусии и тяге к бульварной литературе. Даже не отрицаемая им «довлатовская человечность» для него «зачастую выглядит такой пошлой, такой местечковой…». Читать Довлатова по Быкову — прерогатива вульгарного быдла, которому недоступны высшие образцы изящной словесности.
«… Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя давно уже потерял Бокучаву Натэллу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, расчетливый, мнительный, толстый, циничный — буду идти до конца. Я горжусь неотъемлемым правом смотреть тебе вслед. А улыбку твою я считаю удачей!»
Не правда ли, каждое слово музыкального финала этой почти джазовой импровизации изобличает причастность ее автора к бульварной литературе и легковесному хохмачеству, а тех, кто наслаждается им — к вульгарному быдлу?
Тут нелишне заметить, что Быков вовсе не годится на роль классического Сальери. Того пожирала зависть именно и только к божественному дару своего собрата, которым Г-сподь обделил его самого. А Быков завидует тиражам и непреходящему феномену общенародной любви, хотя народ свой, как выяснилось, снобистски презирает. Очевидно, что для таких утонченных ценителей, как сам Быков, Довлатов никакой не «сын гармонии прекрасной», а беллетрист средней руки прошлого века, которому в обозримом будущем неминуемо предстоит выпасть из русского культурного контекста.
Читаем Довлатова
Нам, благодарным читателям, навсегда плененным прозой Довлатова, очевидно другое. Все эти 30 лет мы читаем и перечитываем его рассказы, новеллы, и повести. Да, да, и «Иностранку», сознавая, что она слабее других его вещей, тоже перечитываем, плюя на Быкова, который «через губу» поведал нам, что ее «отклонило бы сегодня любое уважающее себя издательство». А еще читаем «Колонки Редактора» («Нового Американца» — С.Т.), собранные в одну книгу. И огромный корпус довлатовских писем, мало чем отличающихся от его же сверкающей прозы. Включая и те, что обращены к оставшимся в Питере и Таллинне друзьям. В письмах к ним отчетливо звучит неизбывная «тоска по дому», странным образом, ничуть не утихающая с годами: «Хотите, перечислю все вывески от «Баррикады» до «Титана»? Хотите, выведу проходными дворами от Разъезжей к Марата? Я знаю, кто мы и откуда. Я знаю — откуда, но туманно представляю себе — куда… Зовут меня все так же. Национальность — ленинградец. По отчеству — с Невы».
«Я не бедный и не богатый, поскольку все это относительно, просто я этнический писатель, живущий за 4 000 километров от своей аудитории. При этом, как выяснилось, я гораздо более русский, точнее — российский человек, чем мне казалось, я абсолютно не способен меняться и приспосабливаться, и вообще, не дай Бог тебе узнать, что такое жить в чужой стране, пусть даже такой сытой, румяной и замечательной».
«Я мрачный и больной старик, которого семилетний отпрыск Коля называет: «паршивный, какашечный папка Сережка»… Друзей у меня не так много, раздражительность увеличивается с каждым запоем, а главное, я все же на четырех работах: литература, радио, семья и алкоголизм».
«У нас все более или менее по-старому. Катя (дочь — С.Т.) живет отдельно, в центре города, и работает менеджером в рок-группе («Sex pistols» — С.Т.). Раза два эти металлисты к нам захаживали, джинсы они носят так, что ровно половина жопы торчит наружу, а если кто-то из них еще и наклоняется, то анус виден полностью».
Его обвально смешные, импрессионистски неотразимые, «Записные книжки», разобранные на цитаты, ушли в народ. Тот самый, что по Быкову, ни х-я не утонченный «любитель суррогатной литературы». По этим коротким и убийственно метким фразам, легко узнавать в разговоре «своих»:
«Талант — это как похоть. Трудно утаить. Ещё труднее — симулировать».
«Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре.
«Непоправима только смерть».
«Он пьет ежедневно, и, кроме того, у него бывают запои».
«Пока мама жива, я должна научиться готовить».
«Мало того, что он не стоял. Он у тебя даже не лежал. Он валялся».
«Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки — никого!»
«Газетчик искренне говорит не то, что думает».
Один довлатовский читатель лучше других объяснил, почему, открыв любой текст Довлатова, нельзя отложить его в сторону, не дочитав до конца. Зовут этого читателя — Иосиф Бродский.
«Читать его легко. Он как бы не требует к себе внимания, не настаивает на своих умозаключениях или наблюдениях над человеческой природой, не навязывает себя читателю. Я проглатывал его книги в среднем за три-четыре часа непрерывного чтения: потому что именно от этой ненавязчивости его тона трудно было оторваться. Неизменная реакция на его рассказы и повести — признательность за отсутствие претензии, за трезвость взгляда на вещи, за эту негромкую музыку здравого смысла, звучащую в любом его абзаце».
Такой феноменальной популярности, какая выпала на долю Довлатова, не достиг ни один из его пишущих на кириллице современников, включая, как это ни было бы для него обидно, самого Бродского. И заметьте, что этого массового успеха Довлатов добился не в макулатурном формате Донцовой-Марининой, а, как безупречный стилист, недосягаемый для своих бесчисленных подражателей лингвистическим совершенством узнаваемой с первой строки прозы.
К «народной славе», то есть, к массовому успеху его изданий в России, интеллектуалы-завистники ревнуют Довлатова даже больше, чем к факту его появления на страницах легендарного «Нью-Йоркера», куда рассказы его попали чуть не сразу по приезде в Америку с подачи всесильного Бродского. Для писателя эмигранта попасть в «Нью-Йоркер», да еще не единожды — случай совершенно немыслимый. В него и американскому-то писателю было непросто прорваться. Бродский по этому поводу говорил: «Я действительно послал рассказы Довлатова в «Нью-Йоркер», но я посылал туда еще двадцать авторов, а напечатали только Довлатова. Я могу, конечно, помочь ему печататься, но написать за него рассказы я не могу…».
Об этих публикациях высказался еще один читатель Довлатова, водивший с ним личное знакомство. Его неслабо звали Куртом Воннегутом.
«Дорогой Сергей Довлатов —
Я тоже люблю вас, но Вы разбили мое сердце. Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, но так и не сумел продать ни одного своего рассказа в журнал «Нью-Йоркер». А теперь приезжаете вы и — бах! — Ваш рассказ сразу же печатают. Что-то странное творится, доложу я вам… Я многого жду от вас и от вашей работы. У вас есть талант, который вы готовы отдать этой безумной стране. Мы счастливы, что Вы здесь».
Этим редкостным примером искренней радости одного талантливого писателя за успех другого можно было и завершить эти бессистемные записи, если бы не обещание разобраться с той, присущей наиболее простодушным читателям точкой зрения, что главный герой довлатовской прозы — это и есть, натурально, сам Довлатов. «А вот это лишнее», — как наверняка отозвался бы герой этих заметок на попытку узнать о нем больше, чем он сам поведал нам об этом в своих книгах.
Последнее письмо
Между тем, чтобы постичь пропасть, разделяющую легковесно обаятельного персонажа его книг от депрессивно трагической фигуры их автора, нужно прочитать всего лишь одно письмо. Последнее письмо Довлатова к его старинному питерскому знакомцу, писателю, публицисту, историку и издателю, в том числе, и довлатовских книг, Игорю Ефимову. Игорь Маркович Ефимов был конфидентом Довлатова на протяжении долгих 22 лет. К слову, все эти годы они были на «Вы». Первое письмо к нему Довлатов отправил еще на пути в Америку, из Вены, в декабре 78-го. Последнее — за полгода до смерти — 20 января 90-го. Не хочется, но придется сказать о том, что Ефимов, издав в начале нулевых книгу своей переписки с Довлатовым, грубо нарушил волю последнего, ясно, однозначно, и неоднократно им выраженную, в том, числе, и в ходе самой переписки. Отсюда — процессуально-юридическая составляющая издательской судьбы «Эпистолярного романа». Вдова Довлатова выиграла тяжбу (нарушение интеллектуальных прав и тайны переписки) с издательством «Захаров», опубликовавшим книгу. Таким образом, кроме справедливо отсуженных ею денег, был наложен запрет на допечатку книги. Так что, зачитанная друзьями до стадии отпадения корешка, копия «Эпистолярного романа», стоящая на книжной полке моей домашней библиотеки, — сегодня в своем роде раритет.
Формально поступок Игоря Марковича достоин всяческого осуждения, но мы не будем судить его строго, поскольку именно из «Эпистолярного романа» встает во все свои завидные «метр девяносто четыре» тот самый «неведомый нам Довлатов». Да, и сам Довлатов, как человек сугубо книжный, наверняка отпустил бы Ефимову этот грех, как сделал бы это и в отношении жены Набокова. Довлатов умер на год раньше Веры Слоним, и не узнал, что она покинула этот мир, не найдя в себе силы исполнить посмертную волю мужа, взявшего с нее слово сжечь вариант незаконченного романа «Оригинал Лауры», если он не успеет завершить его. Перед своим уходом Вера возложила эту ужасную миссию на сына Дмитрия, который пренебрег ею, опубликовав под видом романа, фактически, черновики к нему. Душеприказчик и близкий друг Франца Кафки, Макс Брод, понял бы и Веру, и Дмитрия, и Игоря Ефимова, лучше других. Ведь он тоже не выполнил посмертной воли своего друга, опубликовав то, что по завещанию Кафки «должно быть полностью и нечитаным уничтожено».
12 августа 2020 года Игорь Маркович Ефимов ушел в те неизведанные для нас дали, где его все эти долгие 30 лет терпеливо дожидается Довлатов. «Он утверждает, что они так чего-то и не договорили тогда, давно…». Ведь январское послание Довлатова 90-го года осталось без ответа.
Я не стала бы оспаривать мнение тех, в частности, Виктории Беломлинской, кто говорит, что письмо это, помимо того, что в нем приоткрывается «настоящий Довлатов» — есть, само по себе, пример высокой литературы. И что ничего более трагически прекрасного он не написал. В этом страшном, фактически, прощальном письме, — ни привычной, чуть кокетливой самоиронии, ничего забавного, эстрадного, никаких «легко усваиваемых углеводов» его эмигрантских баек. А только мучительное самобичевание, признание такой сатанинской бездны в собственной душе, таких истязающих ее демонов, и такого ада последних лет жизни, что, страшно вымолвить — на ум приходят «Записки из подполья». Набравшись окаянства, дерзну заметить, что по умению выразить невыразимое, по пронзительной трагической силе, лаконизму и изяществу (несмотря ни на что) текста этого письма, душа (моя, разумеется) откликается на него куда сильнее, чем на исповедь петербургского чиновника из «Записок». Изнурительно многословный, без пауз и передышек, поток словоговорения героя Достоевского инстинктивно хочется прервать с первой же минуты. Письмо же Довлатова читается как подведение трагического итога ужасной, прекрасной, нелепой, упоительной, и неуклонно заточенной на самоистребление жизни. Сколько раз ни перечитывай, столько раз слезы будут мешать вам дочесть до конца эту невыразимо печальную исповедь.
В огромном послании от 13 января, на которое Довлатов и отвечает своим исповедальным письмом, Ефимов пеняет ему, что, запутавшись в долгах, запоях и изменах, он не выносит счастливых людей, живущих в ладу с самим собой, таких, как сам Ефимов. Что изощренно остроумные, но далекие от правды «устные зарисовки» Довлатова, а иными словами — злословие, («ложь с моторчиком» — И.Е.) в отношении друзей и знакомых, моментально разносится по всей русско-артистической тусовке Нью-Йорка, и оклеветанные им люди, один за другим отшатываются от Довлатова. Ефимов — последний, кто еще общается с ним. Здесь не обойтись без цитаты из самого Ефимова: «Всю жизнь Вы использовали литературу как ширму, как способ казаться. Вы преуспели в этом. Вы достигли уровня Чехонте, Саши Черного, Тэффи, … Но я чувствую, что Вам этого мало. Вас не устраивает остаться до конца дней «верным литературным Русланом», который гонит и гонит колонну одних и тех же персонажей по разным строительно-мемориальным (то есть вспоминательным) объектам. Вам хочется большего. И если это так, я не вижу другого способа, как превратить ширму в экран — экран, на который будут спроецированы Ваши настроения. Ваши сильнейшие чувства, какими бы неблаговидными они Вам ни казались. Олеша прославился повестью «Зависть». У Вас есть все данные, чтобы написать на том же уровне повесть «Раздражение».
Правоту и проницательность Ефимова в отношении главных своих пороков Довлатов честно и искренне признает, жалко пытаясь оправдаться перед неумолимо строгим своим судией лишь по самым мелким пунктам предъявленных ему обвинений. Уничижительный тон этих оправданий не позволяет мне привести их здесь в качестве цитат. Мне не хочется унижать этим Довлатова, хотя, основанная на непреложных фактах, правота его оппонента любому, да и мне самой, более, чем очевидна. К тому же она слово в слово подтверждается крайне неконвенциональными, но до безрассудства честными воспоминаниями Виктории Беломлинской «Смешить всегда, смешить везде», хорошо знавшей Довлатова и в Питере, и в Нью-Йорке.
И знаете, я догадываюсь, почему в этой переписке трудно не взять сторону Довлатова. Не только потому, что, по его собственному наблюдению «обаяние уравновешивает любые пороки». А человеческое обаяние в этом дуэте — у Довлатова, с чем, возможно, согласился бы и сам Быков. А если не Быков, то американские славистки, познавшие на себе неотразимую силу мужской харизмы «of famous Russian author». По слухам, при первой встрече с «известным русским писателем» — рост под два метра, артистичный красавец с сумрачно-печальными глазами, — некоторые из них падали в обморок. С учетом, что мужчины на славистских кафедрах были гендерным меньшинством, а сексуальное большинство среди них — геями, американских слависток можно понять.
Так вот, взять сторону Довлатова хочется, главным образом, просто потому, что на фоне своего многоумного корреспондента, он вопиюще и возмутительно талантлив. Во всем, включая опубликованную Ефимовым эпистолярку. «Живущий в ладу с самим собой», и не в пример Довлатову, энциклопедически образованный Ефимов, является автором с десяток зубодробильно скучных романов, и такого же количества утомительно нудных литературоведческих штудий. Правда, кое в чем человечество задолжало и Ефимову. У него есть великолепное философско-историческое расследование о «равенстве», одержимое стремление к которому человечества становилось причиной самых кровавых событий в его истории. Воздадим должное Игорю Марковичу за этот блестящий обзор и анализ, под превосходным титулом «Стыдная тайна неравенства». В сегодняшнем саморазрушающемся под предлогом «борьбы с неравенством» мире, по этой тоненькой книжечке, переведенной, кстати, на английский, было бы полезно знакомить население Америки с необратимыми последствиями грядущего в их стране «равенства».
А как интересно было бы услышать мнение Довлатова по поводу наблюдаемого сегодня в Америке апокалипсиса. Он мог бы выразить его, ну, хотя бы в привычном для него формате «колонки Редактора». Но «ты ушел, куда мы все идем», и никогда нам уже ничего ни от тебя, ни о тебе не услышать …
Я начала писать эти заметки, держа в голове, что 24 августа исполняется 30 лет со дня его смерти, но «к дате» не поспела. А не поспела потому, что «я зачитался, я читал давно, с тех пор как дождь пошёл хлестать в окно. Весь с головою в чтение уйдя, не слышал я дождя». Да, именно так. Зачитавшись (от корки до корки) Довлатовым, ничего не слыша, и, обо всем позабыв, я на неделю или дольше забросила свой собственный текст о нем.
До основания Довлатовым пропитавшись, я пришла к еще одному достаточно дерзкому выводу, которым и закончу, наконец, «делиться с миром своими мыслями» на тему «Довлатов не кончается».
Как же нам «свезло», что вопреки советам старика Ефимова и иже с ним, он как будто бы лишь скользил по поверхности жизни, инстинктивно или сознательно не допуская в свое творчество тех злых демонов, что всю жизнь терзали его собственную душу. Да, по природному складу своего дарования он не мог, не умел писать в главной традиции классической русской литературы, — обвинительной и трагической, неотъемлемая часть которой — быть нравственным камертоном общества. И замечательно, что не мог. Зачем нам второсортная достоевщина? У русской, как, впрочем, и любой другой «высокой» литературы, есть еще одно величайшее предназначение — защищать нас от безобразия и скуки жизни. Не только поучать, но и утешать в минуты полного отчаяния, необоримого отвращения к жизни, или вовсе, невозможности жить. «Нас» — это обо всех сирых и «изнемогающих от горя», всех одиноких и страждущих. И просто всех, кто ищет утешения в слове, кто вопреки бессмысленному, лишенному чудес существованию, хочет верить, что жить — не такое уж глупое и скучное занятие, как может показаться тем, кто не читал одного из самых искусных утешителей русской литературы — Сергея Довлатова.
Постскриптум
Сознательно выношу эту историю за рамки своих заметок о Довлатове, чтобы редактор при желании мог напечатать их независимо от нее.
Лет восемь назад я подвизалась на одном сайте, вернее портале, где публиковали и маститого Игоря Ефимова, и ничтожную меня. Участвуя там в разного рода филологических разборках, между нами обнаружилось достаточно общих интересов (Толстой — один из них), чтобы перейти на личную переписку. Возможно, мне она была интересней, чем ему. Ведь двадцать лет своей питерской жизни он провел в коммуналке на Разъезжей, где за их с женой столом десятки раз сиживали Бродский, Довлатов, Рейн, Найман и прочие непечатаемые в СССР авторы, чьими и о ком книгами сегодня заставлены у меня несколько библиотечных полок.
Отдав попервоначалу должное его лучшему творению «Стыдная тайна неравенства», которую я могла хвалить не кривя душой, я изводила его идиотскими вопросами о том, к примеру, кто из двух femme fatale их круга был, на его взгляд красивее, возлюбленная Бродского Марина Басманова или первая жена Довлатова Ася Пекуровская. Он с энтузиазмом отвечал на мои вопросы, пока однажды не попросил меня высказать мнение о его романе «Архивы Страшного Суда», который он прислал мне по почте. Память моя не удержала ни одной сюжетной линии этого романа. Помню только, что, не дочитав муторно-утомительного повествования до конца, успела ощутить отвращение к описанию сексуальных сцен, которыми оно, как мне тогда показалось, изобиловало. Я успела почувствовать из переписки, что он, как и все пишущие мужеского пола, крайне тщеславен, честолюбив и раним во всем, что касается успеха его литературных детищ. Мне не хотелось обижать его, а похвалить не понравившийся мне текст я не могу даже под gun point. Тогда я решила сказать ему лишь частичную правду, что мне, мол, не понравились сцены «про это», и «меня радует, что мнение мое полностью совпало с мнением Довлатова по этому же поводу, которое высказано им в письме к Вам от 30 августа 1982 года». Чтобы убедить Ефимова в своей правоте, я привожу отрывок из этого самого письма Довлатова, опубликованного самим же Ефимовым в «Эпистолярном романе»:
«…Мне понравилось, вернее — мною должна быть отмечена механическая увлекательность этого чтения, природа которого мне неизвестна. Мне понравилось, вернее — опять же я должен констатировать — изобретательность, умение свести концы с концами в сложном организме при массе действующих лиц — никто не пропал, не повис, не остался без функции и мотива. Не понравилось: сексуальные сцены. В них есть какая-то опасливая похабщина. Мне кажется, нужна либо Миллеровская прямота, «моя девушка работала, как помпа», либо — умолчания, изящество, а главное — юмор. Всякие натяжения в паху, сладкие истомы, искрящиеся жгуты в крестцах, краснота, бегущая волнами по чем-то там, — все это лично у меня вызывает чувство неловкости…».
Дальше, как бы стараясь нейтрализовать вежливую беспощадность довлатовского суждения, я, отвесив автору неудавшегося романа комплимент по поводу его терпимости, пускаюсь в общие рассуждения на тему «про это»:
«Остается всячески уважать раскритикованного автора за то, что после такого письма он с другом сразу не рассорился. Это то, что я пыталась, но не могла, или не посмела адекватно выразить: чувство неловкости от «опасливой похабщины». Впервые я это увидела в «Золотая моя теща» у Нагибина, да и у многих других прекрасных русских писателей, взапуски бросившихся с началом «перестройки» описывать волоски на лоне любимых женщин и физиологические детали сладостного процесса «последних содроганий». В том, что бросились — ничего плохого нет. Другое дело, что, не будучи ни в какой степени ни Миллером, ни Лимоновым, они самой природой своего дара (толстовско-флоберской школы) были обречены на неудачу, о которой так прекрасно, хотя и дерзко написал Довлатов в письме к Вам. И его-то Вы никак не можете упрекнуть в «строгих моральных правилах». Как постоянно вменяете это мне».
Мне самой ответ мой показался верхом остроумия и изящества. Но Игорь Маркович не разделил этого мнения и осерчал на меня не по-детски. Он написал мне, что ни я, ни Довлатов, просто не способны описывать те сложные и прекрасные отношения между мужчиной и женщиной, которые и составляют лучшую сторону любви. И что по получении моего письма он вчера на сон грядущий перечитал те самые сцены, и еще раз удостоверился как они хороши именно в литературном отношении.
Меня его ответ порадовал тем, что в нем в первый и последний раз мое имя было перечислено через запятую с именем Довлатова. Вы, наверное, догадались, что на этом наша более чем годовая переписка благополучно завершилась. То, что причиной этого стала персона Довлатова, не может не радовать.
Раз уж зашел разговор на эту деликатную тему, мне хочется сказать о Довлатове то, что я не решилась написать в свое время Игорю Марковичу.
Довлатовский отклик — чего стоит только непревзойденная «опасливая похабщина» — на роман Ефимова рождает зависть каждой своей запятой. Он, отклик, честен, остроумен, изящен, и изысканно вежлив. Так что, меня тоже можно занести по разряду завистников, но только самых мелких, ничтожных.
Довлатов был необычайно брезглив к пошлости и целомудренно (вполне в традициях русской классической литературы) сдержан в описании физической стороны любви. Самая «сексуальная сцена» у Довлатова разворачивается в сарае овощехранилища, где 18-летний студент, герой «Винограда», тяготящийся своей постылой девственностью, падает в обморок при виде полуголых работниц овощебазы.
«И все они были голые. Вернее, полуголые, что еще страшнее. Их голубые вигоневые штаны были наполнены огромными подвижными ягодицами. Розовые лифчики с четкими швами являли напоказ овощное великолепие форм. Тем более что некоторые из женщин предпочли обвязать лифчиками свои шальные головы».
А вот как он претворяет в художественную плоть своих творений данный Ефимову совет, что при описании любовных сцен, если ты не Генри Миллер и не Эдичка Лимонов, нужны «лишь умолчания, изящество, а главное — юмор»:
«Далее Таня чуть слышно выговорила:
– Давайте беседовать, просто беседовать…
За три минуты до этого я незаметно снял ботинки.
– Теоретически, — говорю, — это возможно. Практически — нет…
А сам беззвучно проклинаю испорченную молнию на джемпере…
Тысячу раз я буду падать в эту яму. И тысячу раз буду умирать
от страха.
Единственное утешение в том, что этот страх короче папиросы.
Окурок еще дымится, а ты уже герой…
Потом было тесно, и были слова, которые утром мучительно вспоминать».
Но тут застигло Шахерезаду утро, и этим прелестным извлечением из «Заповедника» она, наконец, прекратила дозволенные (и недозволенные) речи.



 (голосовало: 11, средняя оценка: 4,91 из 5)
(голосовало: 11, средняя оценка: 4,91 из 5)

