
По сей день у композиторов России есть свой «Дом творчества» в Сортавале. Сортавала находится на территории, до 1940 года принадлежавшей Финляндии. Это живописнейший Карельский перешеек, куда когда-то финские богатеи любили ездить на охоту. И так как пути Г-сподни неисповедимы, и в один «прекрасный» день сам Сталин решил, что пора расширить границы СССР и отодвинуть финнов от Ленинграда, то и «охотничий дом знаменитого финского босса» оказался… «Домом творчества и отдыха» советских композиторов.
— Нехорошо, конечно, что мы с вами, музыканты, выглядим завоевателями, нехорошо, — с горькой иронией говорит мне известный дирижер К.И.Элиасберг. Вы, Владимир Ильич, — ни больше ни меньше, как полный тезка Ленина, а я, Карл Ильич, и того серьезнее: помимо ленинского отчества (Ильич), ношу имя Маркса — Карл! Получается какая-то «неувязочка»: мы с вами советские люди, напоминающие о классиках марксизма-ленинизма, топчем чужую землю. Нехорошо получается, совсем нехорошо…
— Это мой Карл так шутить изволит, — с улыбкой комментирует жена Элиасберга, Надежда Дмитриевна Бронникова. Вы, конечно же, знаете, что Карл Ильич — это легендарное исполнение Седьмой симфонии Шостаковича. В осажденном Ленинграде. Город был фактически отрезан от родной России. Обстреливали его немцы нещадно. Но люди в большинстве падали на улице не от снарядов, а от голода. Вот тогда-то и дирижировал Элиасберг Седьмой симфонией Шостаковича. Я тогда сидела в его оркестре, тоже играла. Пальцы едва ходили. От слабости. Нет, нет, откуда-то появлялась нужная энергия. До сих пор не понимаю, как это мы играли. Просто чудо: совершенно истощенные музыканты выражали себя неистово! Наверное, с таким подъемом звучала только «Марсельеза», когда французы брали Тюильри. И все мы, оркестранты, чувствовали, что наш дирижер, словно полководец, прорывающий блокаду Ленинграда. Если бы в те мгновенья немцы услышали «тему нашествия», они, наверное, сложили бы оружие. Это было гениально!
— Гениально у Шостаковича, а не у Элиасберга! Хватит, Бронникова, патриотических речей о собственном еврейском муже, — прерывает жену музыкальный герой ленинградской блокады. Хватит. — Самуил Абрамович Самосуд продирижировал симфонией раньше меня. В Куйбышеве. И Хайкин дирижировал. И Рахлин дирижировал. И Пазовский дирижировал. Так что Элиасберг — один из многих. Давайте-ка о нем поскромней… И вообще надо абстрагироваться от самохвальства. И тогда картина сразу проясняется. Немцы оккупировали нас? Захватчики! А мы не оккупировали Финляндию? Пойдемте, Володя, мы с Бронниковой покажем Вам свою дачу в оккупированной нами Сортавале. Дача у самого озера. Красота неописуемая! Но ведь это Финляндия… Нет, не думайте, пожалуйста, что я преклоняюсь, раболепствую перед чужой страной. Самая потрясающая природа — не здесь, а на Валааме. На том самом Валааме, что новгородцы основали на заре XIV века. Вы не были на этом острове? Никогда не были? Да это, если хотите, самое волшебное место на свете. Гипнотизирующее. От него не могли оторваться наши русские художники — ни Рерих, ни Куинджи, ни Шишкин! Хотите, поедем вместе?
— Это тем более интересно, что поедем мы по Ладоге, — добавила Бронникова. А ведь по льду замерзшего Ладожского озера во время блокады Ленинграда проходила «дорога жизни». Так называли ее ленинградцы, окруженные врагами со всех сторон, кроме Ладоги. По этой единственной дороге, постоянно бомбившейся с воздуха немецкой авиацией, шел в Ленинград спасительный наш хлеб, тот самый хлеб, которым, между прочим, немного подкормили нас, музыкантов, в день премьеры, перед исполнением Седьмой симфонии Шостаковича. Чтобы никто из нас, исполнителей, не упал в голодный обморок во время концерта. И по этой же Ладожской дороге вывезли из осажденного Ленинграда одну маленькую девочку Ирочку Супинскую. Спасли от голода. Знаете, кто эта девочка? Ирина Антоновна — будущая жена Дмитрия Дмитриевича.
Удивительно! О чем бы мы ни говорили с Элиасбергами, обязательно приходили к Шостаковичу. И случилось так, что на Валааме имя Шостаковича объединило не только нас троих…
Необозримая стальная гладь Ладожского озера. В центре — высоченный скалистый холм, на вершине — белокаменный монастырь. Ступив на Валаам, мне казалось, что мы попали в мир особых измерений: прежде всего, в мир очень странной тишины. Величественной и грозной. Суровый покой острова таил в себе какую-то многозначительность.
— Может быть, самое главное здесь — это кладбище, — заметил Элиасберг.
Гигантские ели едва расступались, образуя на тропе причудливый темно-зеленый свод.
— Вы когда-нибудь видели такой лес? — спросил Элиасберг. — Эти могучие деревья, выросшие на скалах, — дети северного солнца и родниковой воды. Какая здесь почва! Плодороднейшую землю навезли с соседних островов монахи. На лодках. Десятилетиями свозили они землю, чтобы окончательно покрыть ею скалу, сделать Валаам действительно плодородным. Монахов, как Вы понимаете, давно нет. Они истреблены. Но есть памятники. Вот смотрите: что за надпись на этой могиле?
На надгробной плите, поросшей мхом, можно было с трудом различить примерно следующее: «Здесь покоится прах прирожденного оратора — проповедника, давшего обет молчания и промолчавшего 25 лет». Жена Элиасберга прослезилась:
— Вы представляете себе человека, для которого говорить — наслаждение. И этот человек промолчал десятилетия. Во имя чего?
— Не драматизируй. Разве мы все не молчали? — сыронизировал Элиасберг. — А ведь мы обета молчания не давали. Мы молчали десятилетиями. И за нас говорила… только музыка Шостаковича.
— Карл Ильич! — строго одернула мужа Бронникова. На кладбище тоже есть уши. Уши! Понимаешь? Твои сокровенные мысли могут стать достоянием вовсе не тех, кому ты хотел бы их доверить. И тогда…
— И тогда, — подхватил Элиасберг, — я смогу уже остаться на кладбище навсегда. Так? Этот театр абсурда, между прочим, тоже сродни трагической музыке Шостаковича.

— Уйди от Шостаковича. В историю что ли? Уйди! Займись-ка вот этим захоронением XVI века! Расшифруй, что здесь на плите. А мы с Володей подойдем поближе вон к той огромной птице. Чудо какое-то!
Чудо отлетало все дальше, и в погоне за ним мы заблудились.
— Вы не чувствуете, что в этих зарослях кто-то прячется?
В вопросе Бронниковой были явные нотки тревоги. Я попытался урезонить ее: «Да это, конечно же, та самая чудо-птица, которая так и не позволила себя лицезреть. Она и прячется от нас. В такой чащобе всегда что-то скрывается от глаз человеческих».
— А мне всерьез кажется, что за нами следят. Давайте позовем Карла.
— Карл Ильич!
— Карл Ильич! — отозвалось эхо.
— Почему он молчит? — испугалась Бронникова. Карл Ильич! Элиасберг!
Э-ли-ас-берг! Гулкое эхо огласило остров. И тут произошло действительно нечто необычное: перед нами, словно бы из-под земли, выросла фигура незнакомца. В первое мгновенье померещилось, что это вовсе и не человек, а какое-то ужасное видение. Мы с Бронниковой остолбенели.
— Вы меня, пожалуйста, простите, — услышали мы вежливый и слегка хриплый голос незнакомца. Я не стал бы вас тревожить, но понял, что вы знаете Элиасберга…
Нашему удивлению не было границ. Перед нами стоял низенький мужчина в потрепанном костюмчике. Вернее, это было лишь подобием одежды. Грязный серый пиджачок, расстегнутый, а точнее сказать, без пуговиц, едва держался на сутулых плечах. Руки болтались, как плети. Руки? Да нет же! Рук не было! Не было рук!
— Что случилось? — запыхавшись, спросил подбежавший к нам Карл Ильич.
— Я виноват, — сказал незнакомец. — Простите меня. Вы, конечно, Элиасберг?
— Да, я Элиасберг. Но в чем дело?
— Я — музыкант, — с волнением произнес безрукий. И сегодня у меня решающий день…
Мы, трое, переглянулись. Что? Решающий день?
— Простите, я поясню… Я когда-то был музыкантом. Скрипачом. Преподавал в детской музыкальной школе. Одно время вел и хоровой класс… Так что, дирижировал. — Незнакомец улыбнулся. — Я знаю Вас, товарищ Элиасберг. Я был на Вашем концерте, где Вы исполняли Шостаковича. Я тогда был на излечении в Ленинграде. В военном госпитале. Это после первого ранения на фронте. Ранение было легкое. Поправился. И снова пошел на фронт. В разведбатальон… Фронтовики, особенно разведчики, хорошо знают, как важно различать разного рода шумы. Все существенно: не только оглушающая канонада, но и тончайший писк, едва уловимый свист. Иногда ощущение малейшего шороха может сохранить жизнь… Психика моя, видимо, устроена странно. В моем воображении шум соединялся с музыкой. С одной и той же музыкой. С той самой, что я услышал в Ленинграде, на Вашем концерте, Карл Ильич… Шостакович показал нам грандиозное шествие. Но долго готовил его «шорохами». Это в Первой части симфонии.
— «Тема нашествия», — подсказал Элиасберг.
— Да, «тема нашествия». С тех пор я сплавляю опасный шум с этой темой. Она живет где-то в подсознании. И во что бы то ни стало в звучании струнных (я ведь скрипач). Мгновенно воспринимаю это как сигнал предупреждения, как голос угрозы…
Идет бой. Отстреливаюсь, прячусь за каменной стеной разрушенного дома. Чу! Слышу: струнные! Слева! Отскакиваю. И в то же мгновенье стена слева рушится, превращается в пыль. Так со мной было всегда. Я даже, благодаря струнным, вовремя обезоружил немецкого офицера и доставил его в свою часть в качестве «языка». Он передал командованию много ценной информации. Меня после этого стали называть «герой». Но в героях я ходил недолго.
…Была ночная вылазка. Поле, по которому мы, советские разведчики, ползли, пробираясь к цели, обшаривалось немецкими прожекторами. Пули ложились рядом. Струнные то и дело сигналили: сбоку! Пригнись! Справа! А тут мой товарищ по разведке подполз ко мне, дергает меня за рукав: «Куда ползем? — спрашивает. — Мы потеряли ориентир. Потеряли! Ты как мыслишь? С какой стороны их башня? Не с этой ведь»…
Башней все и закончилось. Дальше ничего не помню. Подорвался я на мине. Понимаю теперь, почему подорвался: перестал вслушиваться в сигналы струнных. Отвлекся от партитуры Шостаковича. Это мне дорого стоило: одну руку отняли совсем, другую отхватили по локоть. Но ничего… Ничего, ничего, словно успокаивая себя, твердил это слово наш собеседник. Хотите знать, какая музыка зазвучала потом?
Всех нас, таких вот, как я, собрали на Валааме. Несколько лет назад нас, инвалидов, было здесь много: кто без рук, кто без ног, а кто и ослеп к тому же. Все — бывшие фронтовики. Но от нас отказались родные. Не нужны мы им. Моя бывшая жена… не приняла меня… Не приняла… Но ничего. Ничего — ничего… Тут некоторые из инвалидов-фронтовиков нашли себе новых подруг. Медсестры. Санитарки… Есть ведь у людей сердце. И брали женщины к себе в дом таких вот, как я. Выходили за них замуж. Но все-таки это исключения. Как правило, инвалиды не выдерживали. Умирали. Сходили с ума. А иные спивались окончательно. Деньги родственники иногда присылали, и их сразу пропивали… Я тоже стал было попивать… Но скоро понял, что иду к финалу. Взял себя в руки… Ничего, ничего. У меня товарищ в Ленинграде есть. Тоже инвалид. В тяжелом состоянии. Но у него жена — золото. Написал он мне, что постарается помочь. Пишет, приезжай, мол, в Ленинград, подумаем вместе, как быть. Познакомим тебя. Может, женишься. Пишет, что, мол, если голова на плечах есть, и ноги держат, то можно жизнь начать сначала. Да и с музыкой, пишет, не расстанешься: на концерты ходить будешь, детей будешь консультировать…
Знаете, товарищ Элиасберг, после этого письма моего друга «тема нашествия» удалилась, отступила. Совсем! Я услышал лирику Шостаковича. Такой прекрасной лирики на свете больше нет. Только у Шостаковича. Почему? Я думаю, потому, что это наша мечта о счастье… Через большую трагедию пробивается. Пытается пробиться. Пытается… В Седьмой симфонии свет мажорный на сумрак минора меняется. И это в лирике, после «темы нашествия». Трагическая лирика. Но ведь лирика… Так и у меня сейчас. Я пытаюсь думать, что начну жизнь сначала. Как мой друг написал. Ничего, ничего. Трудно только с небес на землю спускаться, — с глубоким вздохом произнес учитель музыки. Мне бы вот в Сортавалу попасть. В город. Там у меня шофер знакомый. Со связями. Он тут раньше работал. Так он обещал, что без особых проблем отвезет меня в Ленинград, к моему другу. Проблема только одна: сесть на сортавальский пароход здесь, на Валааме. Это не просто. Сортавала — пограничный город. При посадке на Валааме пограничник будет проверять документы. Если меня «застукают», это финал: никогда уже мне не выйти больше за пределы монастырского двора. Не выпустят. А это хуже смерти…
Учитель музыки замолчал… Мы, его слушатели, стояли в полном оцепенении.
— Что же практически мы могли бы сделать для вас? — спросил, наконец, Элиасберг. — Может быть, вам нужны деньги на дорогу?
— Спасибо. Деньги я достал. Пришлось продать свой орден. Тому же знакомому шоферу. Знаю, что это преступно. Преступно по отношению к себе самому: орден кровью моей добыт. Но ничего… Ничего… Как помочь мне? Вы могли бы, конечно. Надо отвлечь внимание пограничника. Это главное. Надо как-то его «заговорить». Вы сумеете, вас ведь трое. Спросите у него что-нибудь. Затейте с ним полемику. А я тем временем постараюсь проскользнуть на корабль. С моряками сам договорюсь. Я уже решил: или сегодня, или никогда. И, наверное, Б-г мне послал вас в помощь.
— А, может быть, это скороспелое, все же, решение? Все-таки у вас здесь, на Валааме, красиво. Вы можете гулять свободно: свежий воздух, хорошее питание, — стала мягко рассуждать Бронникова.
— Питание… Если верно, что не хлебом единым сыт человек, то ведь тут, на Валааме, для нас, инвалидов, никакой духовной пищи нет. Простого проигрывателя с пластинками не добьешься. Ни о Шостаковиче, ни о Чайковском здесь не ведают. Да я даже скрываю, что музыкант. Засмеют… Что о духовной-то пище говорить, если хлеба вдоволь не дают. Гулять свободно — тоже не положено. Запрет! Здесь не то что к палатке пройти, где воду продают, а выйти в лес — все равно что вам командировку за границу в НКВД получить. А знаете, почему нас не выпускают из монастыря? Общения людей боятся! Общения! Вот где железный занавес. Действительно железный! На острове-то туристы бывают. А это значит, что мы, инвалиды, того и гляди, сболтнем что-нибудь, о чем рассказывать не полагается. Но эта вольность общения инвалидов с туристами скоро прекратится. Вернее, туристы-то на Валааме будут, но нас отсюда уберут, подальше от туристов. Выберут из Валаамского архипелага островок такой, куда и птица вряд ли залетит. Сейчас план специальный разрабатывается. Но ничего, ничего. У нас страна оптимистическая. Мажорная. Поэтому следят, чтобы мы, инвалиды, не смущали, не озадачивали, не будоражили советских людей своим уродством. Ведь мы не такие, как все. Калеки. Мы выглядим плохо. Потому-то нас и держат взаперти, как в гетто. Паспорта отобрали. Чтобы в случае чего — сразу выловить нас.
Странно: как только чиновник какой, как только персона какую-либо власть имущая, так человек без сердца. А это значит, «тема нашествия» не отступила, нет. Я-то это хорошо чувствую. Помните, все мы в 30-е годы песню пели: «А вместо сердца — пламенный мотор». Песня о самолетах. А многие почему-то облюбовали для самих себя самолетную внутренность: мотор вместо сердца поставили. «Все выше и выше» называлась песня. Печальная ирония моей судьбы в том, что я забрался на недосягаемую высоту, на скалу Валаамскую. А спуститься с нее нет возможности. Потому что у «охраняющих», «жалеющих», «лелеющих» меня — «вместо сердца пламенный мотор». Разве это нельзя сравнить со струнными, что в «теме нашествия»? Ведь это одно и то же. Буквальное повторение. И вы знаете, я опасаюсь говорить с чиновниками, пожалуй, больше, чем нацеленных на меня автоматов. Подхожу к чиновнику. И чу! Струнные! Явственно слышу тот же фронтовой сигнал опасности. Но ведь разница: увернуться от пули можно, а от чиновника нельзя. Он бьет лучше снайпера.
После фронта, здесь на Валааме, я бессонными ночами думал: почему именно струнные «темы нашествия» так внедрились в мое воображение? Да, я скрипач. Но в этом ли дело? Почему меня не преследовали трубы, тромбоны? Почему я «вздрагивал», словно от электрического тока, когда слышал струнные? И понял: потому, что струнные «вывернуты наизнанку». Да, наизнанку! Вы удивляетесь? Я тоже удивлялся: как это могут скрипки извлекать сухие, потусторонние звуки? Будто из этих скрипок, да и вообще из всех струнных инструментов, душу вынули. А ведь это так задумано композитором. Такая оркестровка. Такое сочетание штрихов исполнительских. Потому-то они, струнные, и разрывают душу, что ее вынули у тех, у кого она была. Вот отсюда и «бездушная механика». Она — не только в ритме. Она — в самом тембре. Шостакович показал это лучше всех. Вот и сейчас мы думаем-гадаем, как проскочить мимо пограничника? Разве это не борьба с механикой? Ведь сердце здесь и не ночевало. Пограничник-то, по идее, обязан стоять на страже истины, правды, доброты. Где же это все? Где?!
Бронникова первой подошла к пограничнику и, сославшись на то, что не может найти ни паспорта, ни справки из Сортавальского Дома творчества композиторов, стала рыться в сумочке, то и дело обращаясь к страже порядка:
— Как же я это могла потерять, товарищ пограничник? Как я могла потерять?
— Не знаю. Вас не знаю. Не знаю… — слышалось в ответ, словно из уст механического робота.
Мы с Карлом Ильичем долго уговаривали пограничника пропустить Бронникову на корабль, идущий в Сортавалу. Элиасберг продемонстрировал свои документы. Я объяснил, что Бронникова — жена Элиасберга, а он — легендарный дирижер, исполнявший «Ленинградскую симфонию» Шостаковича в те дни, когда скрипачи, учителя музыки, становились разведчиками и теряли руки на фронте, чтобы дать нам возможность дышать Валаамским воздухом.
— Не знаю. Ничего не знаю — срабатывала механика военного устава.
Естественно: на груди молодого солдата сиял значок «Отличник боевой и политической подготовки».
…Первый гудок парохода возвещал о завершении посадки. К трапу подбежали несколько опоздавших. И тут Бронникова «обнаружила затерявшийся паспорт». Никто из нас троих не заметил, как ловко «прошмыгнул» по трапу наш новый знакомый. На палубе мы сразу увидели его. На последней скамейке. Он сиял.
— Посмотрите на него внимательно: у него красивое лицо. Просто вдохновенное! — сказал Элиасберг. В этом человеке много духовности и огромная воля. Дай ему Б-г удачи!
Мы сели рядом с ним.
— С моряками уладили?— спросила Бронникова.
— С ними все в порядке, — ответил учитель музыки. Их главный матрос сам подошел ко мне, и я попросил его вытащить из моего левого кармана триста рублей. Теперь меня не тронут. А в Сортавале я знаю, что сделать, что сказать. Меня шофер научил. Оказывается не еврейское счастье у меня, не еврейское. Я действительно счастливый, — как-то по-особенному промолвил учитель. И голос его дрогнул…
— Вы еврей? — с удивлением спросил Элиасберг.
— Да, товарищ Элиасберг. Я скрипач без рук и еврей без паспорта. Но ничего, ничего… Моей судьбой на Валааме продирижировали вы, Карл Ильич. Прекрасно продирижировали! Спасибо. Спасибо. Но почему мы не отплываем? Пора бы уже. А? Вы хотели записать мое имя? У меня все сложно. У меня два имени. По двум моим дедушкам. Звучит это так…
— Инвалид из монастыря — на выход! — прогремело вдруг откуда-то снизу. Инвалид — на выход! — прогремело снова. С трапа командовал пограничник. Кому сказано? На выход!!
Элиасберг подошел к борту:
— Я прошу вас! Пожалуйста! Пусть он едет к своему другу…
— Инвалид на выход! — повысил голос отличник боевой и политической подготовки. — Пароход не пойдет, пока инвалид не выйдет…
Учитель музыки встал и едва слышно произнес два слова: «струнные наизнанку»…
— Выходите! Выходите! Не задерживайте пароход! — перебивали друг друга пассажиры. Этот гвалт продолжался не больше минуты, а показался вечностью.
…Когда пароход отчаливал от Валаама, Карл Ильич, Бронникова и я видели, как шел вверх по скалистой дороге к монастырю безрукий инвалид — сгорбленный, маленький, едва заметный. За ним по пятам следовал высокий и статный молодой солдат.
— Добродетель всегда едва заметна, зато порок шествует во весь рост! — негодовал Элиасберг. Вот с этим абсурдом не мог смириться Шостакович! Никак не мог! Музыкой его доказано: все пороки начинаются с отрицания разума. Все! Как отвратительна глупость! От нее рождается жестокость. От нее! — не унимался Карл Ильич. Ведь солдатик-то, конвоирующий инвалида, вряд ли философствует. Он, солдатик, никого сейчас не убивал. Он тихенький — смирненький. Его дело — выполнять директивы. А то, что директивы против человека, против Совести и Разума солдатика мало волнует. Так, к несчастью, нас вымуштровали. Прав учитель музыки, прав! Когда «вместо сердца — пламенный мотор», вот тогда и начинается механический человек.
— Успокойся, ради Б-га! — молилась Надежда Дмитриевна, не на шутку испугавшись, что криминальные речи мужа ее могут услышать. Но Элиасберг не обращал на ее мольбы никакого внимания.
— Смотрите, — продолжал он, — мы отруливаем с Валаама едва-едва, со скоростью черепашьего шага, а у меня в ушах контрапункт совсем иного рода — агрессивная дробь военного марша! Глупенький, очень глупенький, ни на что не реагирующий барабанчик. Сто семьдесят пять раз одна и та же ритмическая формула. Только и всего. А рядом с барабанчиком — «наивная-наивная», «невинная-невинная» (и «дебильная») флейточка. Портрет варвара! Да, да, не только учитель слышит «тему нашествия». Я тоже ее слышу! Кажется только сейчас я, так называемый легендарный дирижер, прозрел. Только сейчас окончательно прозрел. Для этого нужен был Валаам! Да, да, теперь ясно: то, что мы всегда называем «темой нашествия», — это «марш жестокости» не только на войне. Война или мир — не имеет значения. Это предупреждение на все времена. И всем народам. Шостакович изобразил немецких фашистов? Я верил в это, когда дирижировал симфонией Шостаковича в осажденном Ленинграде. Но сейчас могу дополнить…
— Оставь свои сравнения, оставь! — умоляла Бронникова. — Я, конечно, понимаю, как все печально.
— Не печально, моя дорогая. Страшно, — возразил Элиасберг. Страшно… Причина жестокости сегодня — в нас самих. И «марш жестокости» Шостаковича адресован сейчас нам.
Мрачный остров постепенно скрывался в сумраке зловещего заката. Зловещего. Казалось, что за черными волнами беззвучно горит, расплавляется скалистый холм, а вместе с ним и плодоносная земля, когда-то привезенная монахами, и лес, когда-то восхищавший Куинджи. Все горело. Все погибало. Все живое. И теперь уже не только Элиасбергу, но и мне самому как будто послышалась «тема нашествия». И почудилось, что сквозь иллюзорную музыку марша жестокости прорывался безудержный крик человека, крик о пощаде…
Нет. На самом деле царила одна тишина. Устрашающая тишина «мира». И разве не устрашающая тишина «мира» запечатлена в первых тактах «темы нашествия»? Дробь «глупенького» барабана почти беззвучна. А флейточка вроде бы совсем безмятежна. В ее мотивах — раннее утро, брезжущий свет зари. Картина рассвета? Да, первые такты «темы нашествия» — это самый безоблачный и лучистый лад, так называемая пентатоника, «лад природы, лад наступающего утра».
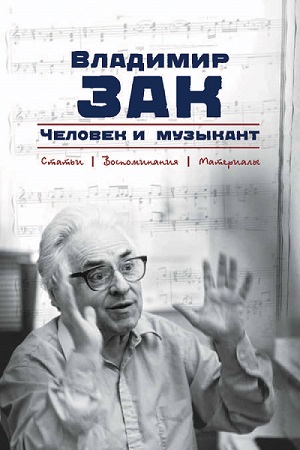
Мы, советские музыковеды-исследователи, ассоциировали это с началом войны, когда Гитлер напал на Россию. Было четыре часа утра. А до этого? До этого?! Б-г ты мой! Сколько честных людей России боялись рассвета! Все знали: рассвет — самое коварное. Рассвет — это приближение смерти. Неизвестно за что. Может быть, за какую-то реплику на вчерашнем партийном собрании. Может быть, за рассказанный анекдот в гостях у товарища. Может быть, за намек на недовольство в очереди за хлебом. А, может быть, и без всякой причины. Без всякой.
«Политических» арестовывали, как правило, ранним утром. Без шума. «Черный ворон» (закрытый фургон с решетками на маленьких оконцах) незаметно подкатывал к вашему дому. Когда все еще спали. В квартиру «осторожно» звонили. И тех, кого забирали, вы уже никогда больше не видели. Рассвет отнимал у вас самое дорогое. Рассвет вносил в вашу жизнь ужас. Разве этот хватающий за горло рассвет когда-нибудь заканчивался в нашей истории? Нет. Он продолжался всегда. От Ягоды к Ежову. От Ежова к Берии… И если премьер-министр Великобритании Энтони Иден когда-то сказал, что англичанину нечего бояться стука в дверь рано поутру, ибо он, англичанин, уверен, что это идет молочница, то любой из нас, советских, испытывал дрожь в коленях, расслышав, что с уходом темноты в нашу дверь постучали.
Моя коллега, с которой я был связан по работе — Нами Артемьевна Микоян (жена младшего сына А.И.Микояна, соратника Сталина), рассказывала мне, что самым страшным испытанием для нее было ощущение рассвета в Кремле, где она жила в одной квартире с тестем — Анастасом Ивановичем Микояном. Непреодолимый страх охватывал всю семью Микояна, когда рано поутру раздавались шаги на лестнице. Их различали по слуху. «Почерк» крадущихся сапог Лаврентия Берии отличался от всех прочих. И Микояны явственно выделяли этот «почерк»: было слышно, что Берия ведет по лестнице «режимных мальчиков». С ужасом семья Микояна прислушивалась: замедляется ли темп шагов у их квартиры? Остановится ли Берия? Микояны знали: если остановится — это конец всему. Не остановился… Прошел… На следующий этаж… К кому же?
На редкость стойкая традиция забирать политических рано поутру прочно утвердилась с 30-х годов, во времена «сталинских чисток», когда «великий вождь народов» запугивал страну лютым террором. Именно в этот исторический период навсегда слились два взаимоисключающих понятия: рассвет и ужас. Растворение мрака (столь любимое Шостаковичем и всегда доставлявшее людям утешение!) на этот раз сопровождалось ощущением «крадущихся сапог», неумолимо приближающихся к твоему дому, к твоим родным, которые должны будут исчезнуть…
Никто другой, кроме Шостаковича, не сумел бы так передать сущность кошмара наступающего дня. Образ Авроры, всегда рождавший у людей чувство надежды, вселявший уверенность, выражался Шостаковичем с противоположным эмоциональным зарядом. Все получалось наоборот. Естественное и позитивное (утро) преобразовывалось в откровенный негатив. По сути Шостакович перевернул традицию. Во всем. И прежде всего — в мелодии, где лаконичность обрубленных ритмом структур раскалывает, расщепляет, дробит «лад природы», «лад рассвета». Военный барабан необычайно усиливает этот «эффект огрубления». Флейточка «несостоявшейся пасторали» оборачивается «гримасой» наступающего дня.
Утро, «вывернутое наизнанку»? — я вспомнил образное определение учителя музыки, относившееся к трактовке струнных у Шостаковича. Верное определение. Очевидно и то, что «вывернуты наизнанку», и утренний пейзаж, и даже сама тишина, столь часто романтизировавшая музыку Шостаковича.

Изображение зла в облике «поющейся» мелодии — тоже перевернутая традиция. Да, краткие фразы «темы нашествия», с ее пугающими паузами, очень легко запоминаются. Факт! И это потому, что Шостакович избегает здесь инструментальной угловатости. А ведь именно через угловатость изображались отрицательные персонажи на протяжении всей истории русской оперы — начиная с «Марша Черномора» из «Руслана и Людмилы» Глинки.
Наперекор традиции «злую тему» Шостаковича очень просто проинтонировать голосом. Очень просто! Она укладывается в вокальный диапазон. И она бездушна, как бодрячок. В этом как раз карикатура. И в этом — глубочайший смысл. Люмпен, как примитив, должен быть наивно простодушным. У люмпена нет вопросов. Для люмпена все ясно, все понятно. И это «марш люмпена». Потому и вслушиваясь в него, становится страшно.
Я вспомнил рисунок «темы нашествия», сделанный шестилетней девочкой: солнечный диск, изображенный черным фломастером. Только черным. «Другие цвета не годятся, — говорила девочка. — А черный годится: радости-то нет!»
Надежда Мандельштам, словно солидаризировалась с девочкиным рисунком «темы нашествия»: «В периоды, когда кончается эпоха, солнце становится черным». Вот это и есть утро «наизнанку».
…Да, все парадоксальное в «теме нашествия» — отражение парадоксов нашей жизни. Разве не парадоксально, что тишина мира упрятала героев войны?! Разве не парадоксально, что защитник Родины, фронтовик, не имеет реальных прав на жизнь?! Разве не парадоксально, наконец, что общество молчит, не протестует, не возмущается?!
— Тихие вариации «темы нашествия» кончились, — прервал мои размышления Элиасберг. — Смотрите, как суровая Ладога следует за партитурой Шостаковича: накатываются волны, предвещается шторм! Идем к кульминации. Вот она, «ревущая медь» «темы нашествия»! Сама стихия восстает против бесчеловечности! Сама стихия!
— Надо быть прямо-таки Чарли Чаплином, чтобы устоять на этой палубе. Держитесь крепче за перила, — предупреждала Бронникова.
… Надо быть Чарли Чаплином… У Шостаковича много чаплинского в музыке. Сделаешь один неверный шаг — и провалишься в открытый люк. Забавно? У Чаплина это и забавно, и грустно. А у Шостаковича? Он превращает свои люки в зияющую пропасть, куда человека XX века толкает произвол. «Забавное» здесь в игре «произвола с человеком». И если наш учитель музыки выбрался из пропасти на фронте, то сейчас, в расцвете мирных дней, его толкают в пропасть снова. Вот эту «забаву» произвола и передает Шостакович. Передает так, будто сам пережил трагедию учителя музыки с Валаама.

… Наш пароходик бросало из стороны в сторону. Как щепку. Свирепые волны разбушевавшейся Ладоги разбивались о палубу, пронзая каждого из нас леденящим холодом. Пароходик кряхтел, стонал, несмело «огрызался».
— Доехать бы живыми! Доехать бы живыми! — истово повторяла свой лейтмотив Бронникова.
— Доедем живыми, если будем думать о всех живых, — сказал Элиасберг. Обо всех. Ведь каждый — неповторим. И заметьте: «тема нашествия» — не только уникальный в мировой музыкальной литературе «марш жестокости». Это и самое убедительное доказательство от противного. И потому-то музыка Шостаковича будет всегда напоминать нам о подлинной цене человеческой жизни.
… Отделаться от «темы нашествия» на Валааме я уже не смог. Вернувшись из Сортавалы в Москву и придя в Союз композиторов СССР, я предложил организовать теоретическую конференцию «О музыке Отечественной войны». Пригласил Элиасберга сделать доклад. Его рассказ о блокаде Ленинграда и Седьмой симфонии был на редкость сильным. А после он сказал мне: «Я написал в партийные инстанции по поводу того, что делается на Валааме. Написал достаточно сдержанно, корректно. Но вы ведь знаете мою жену. Она умоляет, чтобы я не затевался с этим, что я безумец, что им там, наверху, все отлично известно и без меня. А я ставлю под удар не только себя, но и будущее семьи. Наверное, она права. Письмо пока не отправил…”
— О «теме нашествия» в сегодняшнем докладе я ничего не сказал, — продолжал Элиасберг. — Увы! Время еще не пришло говорить правду. Доживу ли я до такого времени? Может быть, вы, Володя, когда-нибудь поведаете об этом?



