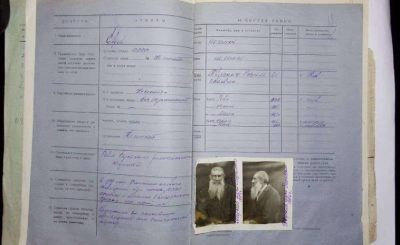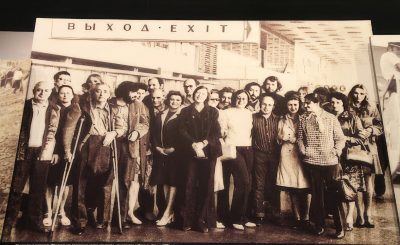“Каждый волен иметь свои национальные симпатии и антипатии, но ненависть к целому народу есть грех, есть человекоубийство, и ненавидящий должен нести ответственность”.
“Каждый волен иметь свои национальные симпатии и антипатии, но ненависть к целому народу есть грех, есть человекоубийство, и ненавидящий должен нести ответственность”.
Н. А. Бердяев, “Христианство и антисемитизм”, “Путь”, Париж, 1938.
Высочайшие достижения человеческого духа и злобный антисемитизм, гений и злодейство – совместимы ли они? Сколько раз с искренней горечью узнавали мы, что тот или иной творец великого шедевра проявлял в жизни – в словах и/или поступках действия, недостойные его творения. Так что, разве не живут великие творения в сознании современников и потомков своей самостоятельной жизнью, полностью отделившись от своих создателей? Нет, в искусстве (по крайней мере, в искусстве) недопустимо разделять эстетику и этику, эстетику творений от этики творцов. Они сосуществуют вместе, как сиамские близнецы. И всё-таки, так ли уж важно, в конце концов, знать, что собой как личности представляют творцы искусства? Не так ли? Нет, не так! Иначе не было бы истории искусства: истории литературы, музыки, живописи, архитектуры, не изучали бы мы жизнь и творчество великих мастеров культуры, их психологию и философию. Без этого нельзя глубоко и правильно оценить плоды их творчества, определить место творцов в истории цивилизации.
Ну а нам, евреям, в силу драматических коллизий нашей более чем трёхтысячелетней истории отнюдь не безразлично отношение мастеров культуры к еврейству, к тому, попадают ли они в ранг антисемитов, и если да, то где каждый из них располагается на шкале антисемитизма.
Ну вот, евреи “опять о своём” (А. И. Солженицын, “Бодался телёнок с дубом”). А разве это не естественно? Разве “Капитанская дочка” или “Мёртвые души” не о своём? Может быть, они о мифах Древней Греции или о хижине дяди Тома? А “Война и мир” – разве это о Франции времён “Трёх мушкетёров”? Вся моя книга “о своём”, о нас, евреях, нашем прошлом и настоящем. Она о нас даже тогда, когда речь идёт и о неевреях.
Ограничимся именами трёх выдающихся творцов культуры, проявивших в жизни и творчестве жгучий антисемитизм. Вагнер, Достоевский, Солженицын. Речь пойдёт об их отношении к нам, евреям.
9.1. Рихард Вагнер (1813 – 1883)
“Я считаю еврейскую расу прирожденным врагом человечества… Для еврея сделаться вместе с нами человеком – значит, прежде всего, перестать быть евреем…”
Р. Вагнер, “Иудейство в музыке”.
В последние годы с частотою раз в десять лет в Израиле предпринимаются попытки исполнить музыку Вагнера в концертных залах. На её публичное исполнение уже без малого 70 лет существует запрет (притом, что кассеты и диски с его музыкой, а также партитуры его опер свободно продаются).
Всё началось сразу после Хрустальной ночи в Германии 10 ноября 1938 года. Её свидетелем оказался знаменитый скрипач, создатель Филармонического оркестра в Палестине Бронислав Губерман. Вернувшись в Тель-Авив, он настоял на исключении музыки Вагнера – фрагментов из его опер – из программы ближайшего концерта: “Гитлер обожает музыку Вагнера, выражающую, по его мнению, истинный арийский дух. Он называет её «главным источником вдохновения»”. Геббельс писал, что музыка Вагнера “прославляет сильную личность, немецкий национальный дух и прекрасно подкрепляет суть нашего лозунга «Германия превыше всего!»”. И ещё: музыка Вагнера “хорошо взбадривает тевтонскую кровь и отвечает ключевым целям нашего движения – строительству великого германского отечества от океана до океана, а может быть, и во всём мире”.
В 1999 году в Иерусалимском университете выступил правнук Вагнера, музыковед доктор Готфрид Вагнер. Он говорил: “Нельзя, просто нельзя исполнять его (Рихарда Вагнера) музыку. Для знатоков творчества Вагнера совершенно очевидно, что оно неотделимо от расистской идеологии… Изучение его произведений убеждает в том, что они были продиктованы стремлением воспеть арийскую расу, противопоставить её другим, «низшим» расам”.
Музыка Вагнера постоянно звучала в лагерях смерти. Отказ от её публичного исполнения стал в Израиле, по словам дирижёра Юрия Арановича, одного из лучших интерпретаторов Вагнера, “нерукотворным памятником шести миллионам евреев, уничтоженных немцами в годы Катастрофы…”. Когда в 1981 году знаменитый дирижёр Зубин Мета, возглавлявший в то время Израильский филармонический оркестр, попытался исполнить увертюру к “Тристану и Изольде”, возмущённые слушатели, а среди них были и уцелевшие узники нацистских лагерей, сорвали исполнение. Десять лет спустя, в 1991 г. еврей Даниель Баренбойм, известный пианист и дирижёр, предпринял новую попытку исполнить Вагнера. С протестом выступил переживший Катастрофу спикер кнессета Дов Шилянский. “Впервые я слышал его музыку в Дахау”, — сказал он. И всё же ещё через 10 лет, в 2001 году, Баренбойм таки исполнил Вагнера на фестивале в Иерусалиме с оркестром Берлинской филармонии, нарушив обещание не играть Вагнера. “В музыке Вагнера нет антисемитизма, — заявил он по окончании концерта, — а те, кто ассоциирует его музыку с Холокостом, должны оставаться дома”. Эфраим Зуров, директор израильского отделения “Центра Симона Визенталя”, назвал шестидесятилетнего Баренбойма “культурным террористом” и призвал все израильские оркестры бойкотировать Баренбойма. (Два года спустя Баренбойм выступил с фортепианным концертом в Рамалле. “Я чувствую, что мы, израильтяне, сделали недостаточно, не взяли на себя в полной мере ответственность за решение палестинской проблемы”. Террористы Арафата бурно его приветствовали).
Так разве только музыка Вагнера исполнялась в лагерях смерти? – возражают приверженцы исполнения Вагнера в израильских концертных залах. Разве перед входом в газовые камеры не играли Баха, Бетховена, Иоганна и Рихарда Штраусов, Шопена, наконец, “неизвестного композитора” (Мендельсона)? Но их музыка постоянно звучит в концертных залах Израиля. Так в чём же дело? В личности Рихарда Вагнера, в его злобном антисемитизме. А что, Лист, Шопен или Себастьян Бах с его “Страстями по Иоанну” (на текст наиболее злобного и антисемитского из всех евангелий), наконец, Пётр Ильич Чайковский были филосемитами? Нет, конечно, мы не требуем, чтобы нас любили, на то мы и не доллары. Более того, мы, как правило, игнорируем антисемитские высказывания, сделанные в дневнике или частной переписке (Шопен, Куприн, Чехов, Блок…). Но мы категорически отрицаем злобные публичные выступления против евреев, призывающие к их уничтожению.
— Позвольте, — возражают мне, — разве музыка не выше слова? Разве не называем мы прекрасную поэтическую строку “музыкой слова”? Называем, и, если бы Вагнер писал только музыку, она, безусловно, звучала бы на концертах в Израиле наряду с произведениями других великих композиторов. Не являясь его почитателем, признаю, что многие находят его музыку величественной и прекрасной. Однако, будучи великим композитором, Вагнер был ещё и плодовитым писателем, автором стихотворных либретто своих опер, книг “Искусство будущего”, “Опера и драма” и почти 900-страничных воспоминаний “Моя жизнь” (СПб. Terra Fantastica, М., Эксмо, 2003). Но ещё он был и известным публицистом, и в публицистике проявил себя зоологическим антисемитом, антисемитом-идеологом. Это ему принадлежит выражение “окончательное решение еврейского вопроса”.
Кто знает, что делает конкретного человека антисемитом, когда, в какой момент вселяется в него страх и ненависть к евреям? Обычно каждый громкий антисемит заявляет, что его лучший друг – еврей. Вагнер – исключение, хотя евреи приняли активное участие в его жизни с самого раннего его детства. Вагнер был 7-м ребёнком в семье. Его отец умер в год рождения Рихарда, и вскоре мать вышла замуж за многолетнего друга дома, актёра и художника, еврея-выкреста Людвига Гейера, от которого родила затем дочь. Гейер усыновил Рихарда, и тот до 14-летнего возраста носил фамилию Гейера, умершего, когда Рихарду было 7 лет. (В статьях о Вагнере можно прочесть, что он всю жизнь подозревал, что является незаконнорожденным сыном своего отчима. В книге “Моя жизнь” об этом – ни слова). В 1836 году юный Вагнер (ему было 23 года) женился на Минне Планер, еврейке, перешедшей в христианство. Свадебную церемонию провёл пастор протестантской церкви. Минна была на 7 лет старше Вагнера и имела в это время 13-летнюю дочь Наталию, которую выдавала за свою младшую сестру. Брак Рихарда и Минны был неудачным, они периодически расставались, но продолжали оставаться в браке вплоть до смерти Минны в 1866 году. Детей у них не было. В том же 1866 году Вагнер женился на младшей дочери Ференца Листа (1811 – 1886) Козиме, бывшей жене друга Вагнера и Листа, известного дирижёра Ганса фон Бюлова. Этот второй брак Вагнера был счастливым, у него родились дочь Ева и сын Зигфрид. С ними жили ещё трое старших детей Козимы от её первого брака.
Успешным началом своей музыкальной карьеры Вагнер обязан еврею – композитору Джакомо Мейерберу (1791 – 1864), который ввёл никому не известного 24-летнего юношу в музыкальные круги Парижа и неоднократно поддерживал его материально. “Помогите мне (Вы), и Б-г мне поможет. С благоговением вручаю себя Вам”, — писал Вагнер Мейерберу в 1839 году. В воспоминаниях Вагнера, записанных Козимой под его диктовку, можно не однажды прочесть об “искреннем и деятельном участии, которое принимал во мне Мейербер”. Тесно общался он и с другими композиторами-евреями: с Жаком Галеви (1799 – 1862), “которого я очень полюбил со времени «Жидовки» (знаменитая опера, известная в Союзе под названием «Дочь кардинала») и о здоровом таланте которого я составил себе весьма благоприятное мнение”, с Феликсом Мендельсоном-Бартольди (1809 – 1847). “Я с искренней теплотой заговорил с ним однажды о его музыке к «Сну в летнюю ночь»,… я был (настолько далёк) от всякой мысли сравнивать себя с ним, сопоставлять наши достоинства и заслуги”. (К этому моменту Вагнер был уже автором трех опер: “Запрет любви”, “Летучий голландец” и “Риенци”; последняя пользовалась большим успехом). Нельзя не упомянуть также литератора Бертольда Ауэрбаха, “еврея-выкреста, хорошо принятого в обществе писателей и художников… “В отличие от других евреев-выкрестов, — пишет Вагнер, — я впервые встретил еврея, который сердечно и искренне говорил о своём еврействе… Я советовал ему оставить в покое весь этот еврейский вопрос”. А чуть дальше читаем: “Мне… льстило тёплое внимание Ауэрбаха к моим художественно-артистическим планам, хотя это участие и носило еврейско-швабский характер… (лица) глубоко образованного, с весом и знанием”. Добившись известности, Вагнер уже не нуждается в подобных знакомствах, и в главах, относящихся к более поздним годам его жизни, об Ауэрбахе можно прочесть: “Через много лет, когда я его снова увидел,.. это был обыкновенный грязный еврей”.
Продолжение следует