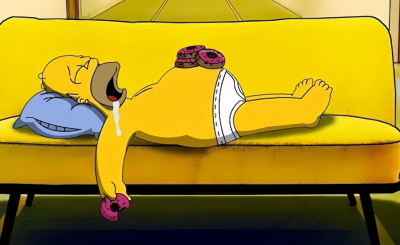СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Стоит вспомнить об одном пламенном партийце, как другой на память приходит. «Другой», правда, здесь не очень годится. Второго такого, не скажу кого, как Иоська, я в жизни не встречал. Потому и фамилию не называю. Где бы он ни находился, ни стоял и ни сидел, он взахлеб расписывал, какое счастье всех осенит, когда власть окажется у трудящихся, а буржуев не станет. Вслух представлял себе, какое это будет блаженство, когда наступит коммунизм. На моего отца и вообще на верующих людей смотрел как на злейших личных врагов.
У него родился сын, и он дал ему имя, в котором каждая буква что-то означала: тут тебе и Советская власть, и Троцкий (это, помню, была буква «т»), и еще что-то. Потащил младенца к евсековцам на заседание, всем показал и речь произнес: вот, мол, человек будущего, он и то, он и се, и не знаю еще что. Это вместо того, чтобы брит-милу сделать…
Помню, в сорок первом году отец ставил хупу у сестры соседки. Когда мы уходили, кто-то помог отцу надеть пальто. Мы вышли, и отец спрашивает:
– Кто это мне подал пальто?
– Иоська!
Отец просто вскрикнул:
– Не может быть! Да ты что? Не может быть!
А я подумал – это он после тридцать седьмого. Может, Иоську исключили откуда-нибудь, может, сам что разглядел. Тридцать седьмой год кое-кому – кое-кому! – открыл глаза.
Знаю, что второму сыну Иоська сделал обрезание.
Видно, и Иоська стал думать. И додумался до того, что его внук учился в Московской иешиве. И хорошо учился. Я когда услышал, чуть в обморок не упал. Приезжал его отец, Иоськин сын. Ничего не знает, но симпатичный.
КЛЕЙНЕРМАН
В Хумаше сказано: «И было, когда он (Моше) приблизился к стану и увидел (золотого) тельца и танцы, то воспылал гнев Моше, и бросил он из своих рук скрижали, и разбил их под горою» (Шмот, 3219). Одно слово кажется тут лишним. «Увидел тельца и танцы…». «Увидел тельца» – разве этого недостаточно, чтобы разгневаться? Причем здесь «танцы»?
Отвечу таким рассказом.
В сорок седьмом – сорок восьмом году я давал частные уроки математики тем, кто хотел окончить школу с золотой медалью и без экзаменов попасть в вуз. Состоятельные люди могли себе это позволить – нанять частного учителя.
Среди моих учеников была дочь некоего Клейнермана, директора сразу двух галантерейных фабрик системы НКВД. Клейнерман был такой важной персоной, что имел в своем распоряжении личный самолет. Да и жена его занимала немалую должность – председатель профкома.
Занимался я с его дочерью у них дома. Так вот, такой роскоши, как у этого человека, я в жизни не видел. Не дом – Третьяковская галерея, столько там было картин!
Как-то закончил я урок, вдруг Клейнерман приглашает меня к себе в кабинет:
– Вы слышали, евреи хотят объявить свое государство?
Я молчу, боюсь говорить – он же из НКВД. А он продолжает:
– И на флаге у них будет написано: «Всякий, кто голоден, приходи и ешь!» (слова из Пасхальной Агады. – И.З.).
Я молчу.
Вошла его жена. Он кивает:
– Вот, моя жена. Ее раньше звали Ципа. Сейчас она ничего не соблюдает, но когда-то зажигала субботние свечи. Я учился в иешиве и был совсем молодой, когда пришла советская власть. Появились еврейские коммунисты, Евсекция, готовые жизнь отдать, лишь бы свести человека с пути веры. Взялись они за меня – а я тогда еще был энтузиаст, старался собрать миньян – и бились со мной несколько лет. И добились своего. С тех пор я работаю в системе НКВД. Правда, был у меня шанс – в двадцать шестом году послали меня в командировку в Румынию. Я мог бы там остаться. Но шанс был, да разума не было. Я вернулся – и потерял «олам а-зе» и «олам а-ба» (этот мир и мир грядущий).
Я смотрел на него и думал: что это он говорит про «олам а-зе»? Да лучше его положения не придумаешь! Когда он говорит, что потерял будущий мир, – это понятно. Но этот мир? Не жизнь, кажется, а сплошное удовольствие. Что же ему нехорошо, что его мучает?.. Понимает, видно, что все это фальшивка. И слова его запали мне в сердце.
Если человек грешит, но при этом недоволен собой – в нем еще есть зерна добра. Сказано: Моше-рабейну увидел «тельца и танцы». Не танцуй они, может, он бы еще подумал, разбивать или не разбивать скрижали. Но они радуются, танцуют! И он разбил…
Из слов Клейнермана следовало, что он служит идолу, но без «танцев». Он был искренен, говоря со мной, – это потом проверилось делом.
В те времена нельзя было свободно купить муку. Люди ночами напролет стояли в очередях и получали товар по формуле «пакет в одни руки» (стандартные такие были трехкилограммовые пакеты из плотной оберточной бумаги). Нужна была мука для мацы, и Клейнерман мне предложил: «Приходи на фабрику, может, смогу получить». Я пришел, он побежал куда-то и принес пакет. Потом говорит: «Подожди». Побежал на вторую фабрику и принес из распределителя для работников фабрики второй пакет. Потом я случайно узнал еще: Клейнерман прислал дрова какому-то слепому старику-еврею.
Конец его «карьеры» был ужасен. Через доверенного человека он послал взятку – пятьдесят тысяч – прокурору Татарской республики. Но ему устроили ловушку. «Доверенный человек» пометил купюры, и к прокурору тут же явились с обыском.
Это было громкое дело, посадили многих… Не думаю, однако, что это делалось законности ради, скорее, какие-то свои счеты: советская экономика «по-честному» в принципе не могла действовать. Но пострадали от этого не только те, кто сел. Верующим, например, трудно было делать то что нужно, не обходя закон, а после этого события в Казани долго нельзя было сделать ничего незаконного, все боялись.
Клейнерман отсидел около десяти лет. Я навестил его, когда он вышел. Он отнесся ко мне очень тепло, не знал, что для меня сделать. Взял меховую шапку, надел мне на голову: «Она вам подойдет». Я, конечно, не взял.
А ведь не познакомься я когд-то с этой семьей, как бы мой Венчик учился в школе? Именно дочка Клейнермана нашла учительницу, которая согласилась принять моего сына в класс, где он не писал в субботу. На такой риск пошла! Кстати, Бенцион поддерживал с этой учительницей переписку до самого недавнего времени. А теперь она здесь, в Иерусалиме, вместе с сестрой. Приехали насовсем. Это Бенцион их пригласил.
РЕБ БЕРЛ ГУРЕВИЧ
Однажды – это было в пятидесятые годы, в Хануку, в канун субботы – я шел молиться. Вижу – идет человек на костылях и спрашивает, где живут евреи. Я привел его в миньян.
Миньян собирался в крошечной комнатушке, метров шесть от силы. А он вошел и говорит: “Ой, это же настоящий рай!” А когда его вызвали к Торе, он произнес “Шеэхеяну” – “Благословен Ты, Б–г, Г–сподь наш, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и просуществовать, и достичь этого времени”. Это – благословение на радостные события и большие праздники.
Фамилия этого человека была Гуревич. Он был хабадник и активно помогал в организации тайных занятий Торой.
У Гуревича было три сына, и, тревожась о том, какими они вырастут при советском режиме, он решил отправить их в Израиль с первыми польскими евреями, добыл фальшивые документы. Но парней задержали в пути и арестовали. Гуревич взял всю вину на себя и так умно действовал, что, кроме него, никто не пострадал.
Отсидел он десять лет и теперь возвращался в Москву.
Проезжая Казань и увидев, что солнце заходит, наступает суббота, он сошел с поезда и стал расспрашивать прохожих, где тут евреи…
Я, конечно, привел реб Берла к себе. Он немного рассказывал о жизни в лагере. Там ему приходилось очень трудно из–за субботы. Начальник орал на него: “Ты у меня будешь работать в субботу!”, — а он упирался, и за это его наказывали беспощадно. Так что, как он сказал, он сейчас на костылях не из–за ног, а из–за сердца… Потом, в Москве, он оправился.
Однажды реб Берл чуть не погиб. У заключенного–чеченца, видно, было плохое настроение. Он выхватил нож, подбежал к Гуревичу, совершенно ему не знакомому, и ударил в спину, в позвоночник. Специальный такой удар – чтобы перерезать спинной мозг. Смертельный. К счастью, нож прошел мимо. Гуревича отнесли в больницу. Через час притащили туда же раненого чеченца: с Гуревичем у него не вышло, так он сцепился с другим человеком, но тот оказался проворнее. Тяжело раненный Гуревич, с сильным кровотечением, немедленно удрал из больницы назад в лагерь, только бы не быть рядом с чеченцем: вдруг бы тому вздумалось довести дело до конца!
– На исходе субботы поеду дальше, – говорил Гуревич. – Столько лет я не был дома! Не знаю, что стало с детьми. Если они останутся евреями – не жалко лет, что я просидел. Но если они стали, как все, – обидно мне будет.
Продолжение следует
Из книги «Чтобы ты остался евреем»