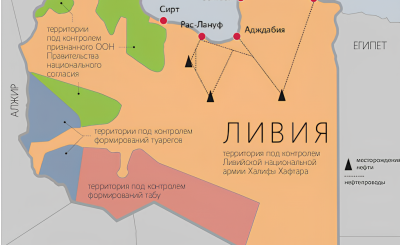– Что есть худшее из того, что может приключиться с человеком?
– Когда он забывает о том, что он — царский сын.
Реб Зуся из Анниполя
Я легко могу представить свое детство без садика, в который я не ходил по болезням, истинным и симулированным, без школы, в которой я не учился, ибо учиться в ней было нечему и не у кого. Но я не могу представить своего детства без «Пеппи Длинныйчулок», рыжей книжки в затертом картонном переплете с заоваленными, замусоленными углами, а также без обаятельного летающего толстяка Карлсона. Эти книжки говорили с детьми нормальным человеческим языком, языком переводчицы Лилианны Лунгиной, без которой мне пришлось бы довольствоваться михалковско-маяковской казенщиной (крошка сын к отцу — дяде Степе пришел…).
Значительно позже, в восьмидесятые, уже в Харьковском университете, мне попалась замечательная французская повесть Жан-Луи Кюртиса «Молодожены», странно предсказавшая мою судьбу, и я даже не заметил, что повесть тоже аппетитно переведена Лилианной Лунгиной. И вот уже в Израиле я прочитал автобиографическую книгу Лунгиной «Подстрочник». Человек лукав с собой, и по исповедям судить о людях не следует, но сильное впечатление от рассказа о достойно прожитой творческой жизни от «Подстрочника» осталось.
Один лишь эпизод заставил меня недоуменно поднять брови. Лилианна Лунгина с матерью перед окончательным переездом из Парижа в Москву заезжают в сороковые в Палестину, в Тель-Авив, навестить бабушку и дедушку. Юной Лилианне Палестина не понравилась.
«Почему-то получилось так, что наш отъезд был назначен на субботу. А это очень серьезная вещь в Палестине, потому что в субботу ничего нельзя делать, в том числе нельзя ехать на извозчике. Бабушка была неверующая, и не религиозные соображения ее удерживали: она боялась мнения соседей. Она безумно волновалась и говорила: вот, мы расстанемся, увидимся ли когда-нибудь, я должна вас проводить. А с другой стороны — не смела бросить вызов этому маленькому обществу и сесть в коляску. Какую-то вуаль себе достала из шкафа, думала, может, не заметят в вуали, примеряла эту вуаль. В итоге бабушка нас не провожала. И на меня это обстоятельство, что мнение соседей оказывает на нее такое влияние, что она так мучается, можно поехать провожать или нельзя, произвело огромное впечатление. Мне было десять лет, я все понимала. Я подумала, что мама права — жить в этом месте нельзя. Жить там, где ты не смеешь делать то, что тебе хочется, не годится».
В рассказе о том, как неверующие бабушка и дедушка, опасаясь набожных, злобных, горбатых, узловатых и диких соседей, обладателей рыжих, «заросших щетиной кулаков», побоялись поехать проводить дочь и внучку на пристань — ни слова правды. Тель-авивских извозчиков в те годы суббота совершенно не заботила (равно не интересует и сегодня). До войны влияние раввинов на тель-авивское неверующее общественное мнение уверенно стремилось к нулю. А богобоязненный еврей не поедет в субботу на пристань вовсе не оттого, что на него укоризненно глянет Марья Алексеевна. И вообще, жить в Палестине — нельзя, а в стране, управляемой Сталиным и Ягодой, можно? При Сталине, видимо, легко было «делать то, что тебе хочется». Впрочем, Сталин тут ни при чем. Я вообще не знаю такого места, где непрерывно можно делать то, что хочется, а тирания либеральных соседей ничуть не лучше утеснений от набожных.
В рассказе Лилианны Лунгиной о визите в Палестину нет правды, но есть нечто более для человека важное: оправдание собственной жизни, жизни, отданной России, а точнее — российской культуре. То, что еврейская интеллигенция давно поклонилась культу Ура Халдейского, я сообразил давно, но в юношеских воспоминаниях Лилианны Лунгиной колет иное: ее взгляд на бабушку и дедушку, взгляд не детский, придирчивый, недобрый.
Люди, вещи, факты сами по себе не холодны, не теплы; таковыми их делает наш взгляд. Патриархальная тупость Душечки, Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны должна бы приводить в бешенство; обаятельными и пушистыми их делают ласкающие интонации и дивное перо Чехова и Гоголя. Бородатый еврей, при талесе и тфилин, раскачивающийся во время молитвы, у меня вызывает сентиментальные сопли, а у Достоевского — крапивницу.
Еврейство — явление эстетическое в не меньшей степени, нежели религиозное и национальное. А эстетические противоречия, как известно, самые непримиримые, они уходят корнями туда, где разуму делать нечего, разговор о них бессмыслен. Но эти противоречия вместе с евреями можно опустить в темный подвал подсознания, где хранятся всякие неприятные вещи. Выплывая из подсознания, эти противоречия разрешаются рассказами о ханжестве палестинских бабушек и дедушек, убоявшихся идола общественного мнения.
Окончательно вытравить из себя еврея окультуренному интеллигенту, однако, не удается, еврейство зудит и чешется, и это приводит его к непрерывной фрустрации. Очаровательная, даровитая писательница Фаина Гримберг, окончательно решив еврейский вопрос, недавно вообще радикально предположила, что евреев просто нет. Я по профессии физик, но скорее усомнюсь в реальности электронов и протонов, чем в существовании евреев. Физические теории что-то слишком быстро меняются, а вот евреи…
Фаина Гримберг и Шломо Занд знают, что евреи есть, но им эстетически необходимо, чтобы их не было, евреи — нежелательны. Потому как если не станет евреев, то исчезнет и Б-г, а в сухой остаток выпадут они, просвещенные люди и темная масса, которую удобно презирать с высот мировой культуры, не менее пригодных для поплевывания на темечко темной толпы, нежели высоты единственно верной религии.
Вот недавно известного элите писателя Максима Кантора интервьюировал вечнозеленый Владимир Познер. Познер заговорил об «иудео-христианских корнях европейской цивилизации», а Максим Кантор его мягко, но незамедлительно поправил «христианских корнях». Свою еврейскую бабушку он именовал «моя аргентинская бабушка». Максим Кантор до сих пор уверен в том, что еврей — ругательство.
Когда еврейский окученный культурой интеллигент говорит о соплеменниках, он почти непременно сбивается на штампы, любезно предоставленные русскими культурой и языком: «Для меня всегда было загадкой, почему этот волевой, энергичный, во многом жестокий народ, вольнолюбивый, музыкальный, своеобычный и дружный, не создал своей государственности. В то время как добрый, рассеянный на огромных пространствах, по-своему антисоциальный русский народ выработал невероятные и действенные формы государственности, всегда по своей сути одинаковые — от Московской Руси до нынешнего дня».
Это пишет Надежда Яковлевна Мандельштам. Она исходит из того, что еврейский народ существует. Это, как мы знаем, уже кое-что. Но, говоря и о евреях, и о русских, Надежда Яковлевна удовлетворяется стандартным русским шаблоном. Она пишет не то, что видит и знает, а то, что говорят о евреях христиане. Вроде того, как солдаты рассказывают не о войне, а о том, что видели в фильмах о войне.
Надежда Мандельштам, конечно, настрадалась больше того, что может перенести смертный. Но откуда же ей известно, что еврейский народ — жесток? Когда и где она претерпела от евреев? Жестоковыйный, упрямый, несговорчивый — это так. Но жестокий? Посмотрел бы я, что бы оставил от Газы добрый русский народ, если бы из нее «забрасывали» ракетами Москву. Ни незнакомого поселка, ни безымянной высоты бы от Газы не осталось, а осталась бы большая вонючая яма диаметром в дюжину верст (и поделом). А добрый русский народ не «рассеялся на огромных пространствах», а их завоевал, со всем тем, что завоеваниям сопутствует. Жаль, что Надежда Яковлевна не побывала в Израиле перед выборами; а то ей пришлось бы затереть ластиком в воспоминаниях эпитет «дружный», прилепившийся к еврейскому народу.
«Евреи здесь нежелательны».
Германия, 1937 год
Фридрих Горенштейн, знакомый с Бердичевом не понаслышке, писал иное: «Нет в мире народа, более психологически разобщенного, чем евреи». Осведомленного в еврейских делах Горенштейна гуш-катифское мероприятие не удивило бы.
У Александра Мелихова, непрерывно расчесывающего свое еврейство, я недавно прочитал в эссе «Любовь свинопаса» следующее: «Согласен, еврейская политика Николая Второго была хуже, чем преступной, — ошибочной. Дело императора открывать наиболее энергичным инородцам путь в имперскую элиту, соблазнять их, а не озлоблять. Конечно, это встретило бы сопротивление и элиты, и массы, да и приручить такого сильного конкурента было нелегко (а что, легко быть расстрелянным в подвале?)». Мелихов походя и легко согласился с тем, что царя расстреляли евреи. Уже интересно. Царские дети (а евреи таковыми себя полагают, см. эпиграф) расстреляли царя-конкурента. Вот Проханов порадуется.
Но дальше Мелихов пишет о моей книжице «Сухой остаток» следующее (по имени меня не поминая и развивая во мне меломанию): «Меня — нет, не покоробили, я и не к такому привык, — мне захотелось оградить симпатичного мне автора от той неприязни, какую почти неизбежно вызовут у русского читателя две мимоходом брошенные фразы. Автор прощался с Россией таким примерно манером: прощай, страна, где духовность измеряется квадратными километрами! Я хотел написать ему, что духовность нигде, и в России в том числе, не измеряется материальными параметрами, но, напротив, умением пренебречь материальным ради каких-то прекрасных грез, однако сразу же представил его ответ: “Но это же шутка!”; потом представил свой ответ: “Как бы вам понравилась такая шутка: здравствуй, страна, где духовность измеряют шекелями?”».
По-моему, последнее, о чем должен заботиться писатель, это о приязни и неприязни русского и нерусского читателя (израильские пророки, Гоголь, Булгаков и Набоков, кажется, читательского сочувствия не искали). Писатель — не дама, приятная во всех отношениях. Но здесь дело тонкое; когда Бормашенко, сидящий в своем Израиле, не сластит российскую пилюлю — это злопыхательство, а когда Мелихов пишет о России из Санкт-Петербурга — это кровное переживание российского патриота еврейского происхождения. И рассказывает о себе так: «Впрочем, кто я такой, чтобы приводить себя в пример, может быть, я настолько жалкая и ничтожная личность, что даже и не осознавал своей забитости и убожества, — я ведь и сейчас такой раб и трус, что плохую страну, где меня не убивают, предпочитаю хорошей, где надо мной и моей семьей висит на глазах тяжелеющий дамоклов меч, и более того, плохую страну, где востребованы мои дарования, предпочитаю хорошей, где я пустое место, лузер, не владеющий языком хозяев. Так что обо мне пока забудем».
Хорошо там, «где меня не убивают». Это верно, но не всегда и не везде. Немцам при Гитлере было неплохо, их не убивали, а все-таки что-то там при Гитлере было нехорошо. Но это было давно. Перейдем на русский новояз: меня здесь не убивают, я-то сижу в России под защитой водородных бомб и баллистических ракет, слепленных по указу батюшки-царя, Иосифа Виссарионовича, еврейскими академиками Зельдовичами и Харитонами (вот уж кто никогда не жаловался на невостребованность; на что только не меняли первородство — меняли и на востребованность), а ты трясись под этим тяжелеющим дамокловым мечом в своем Израиле. Меня не убивают, убивают хохлов и жестоковыйных, некультурных евреев. Правда, Яков Борисович Зельдович подумывал о самоубийстве, когда узнал, что СССР готов передать арабам ядерные боеголовки. И в самом деле, арабы ничего похуже «Кассамов» выдумать не могут, ну так Россия им поможет. И уже полвека помогает.
А я уж лучше посижу, трясясь, в Ариэле, где нас убивают, хоть час да мой, еврейский. А надо будет, шекелей, сребреников, подсоберем, чтобы выкупить Александра Мелихова, когда пробьет его российский час (не люблю пророчить, а придется: очень скоро у российских евреев настанут семь тощих лет; не поможет ни тщательное и вдохновенное вылизывание фараоновой задницы, ни присяга российской культуре). И Александру Мотелевичу сильно повезет, если русский царь снизойдет до того, чтобы взять у еврейского царского сына приличествующий мелиховской мятущейся русско-еврейской душе выкуп.
В России хороши не только квадратные километры, но именно они делают Россию Россией; крымское дело обеспечило руководству тотальный искренний «одобрямс». А вот Израиль делают Израилем отнюдь не шекели; я не видел другого такого места в мире, где так легко бы расставались с деньгами. Не попусту, конечно (здесь сто тысяч в печке смазливой содержанки не спалят), а когда они нужны больному, убогому и страждущему. Израиль умудряется бесплатно лечить не только евреев, и гроша не опустивших в государственную копилку, но и истребляемых братьями-арабами сирийцев.

Жаботинский велел прекратить попытки убедить мировое сообщество в том, что мы не пьем кровь христианских младенцев. Во-первых, это унизительно, мерзко. Что же мы все оправдываемся? Во-вторых, все равно не поверят: ведь всем же известно, что пьем. А я вот завелся и пытаюсь доказать, что евреи существуют, что отнюдь не шекели — их ревнивый бог. Напрасный труд. Царские сыновья и принцессы не только зашвырнули подальше свои венцы, им претит, когда они попадаются на глаза.
Эдуард БОРМАШЕНКО, Израиль