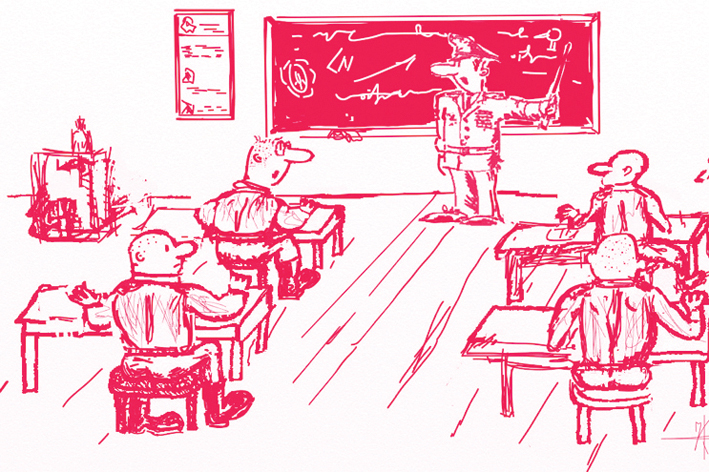
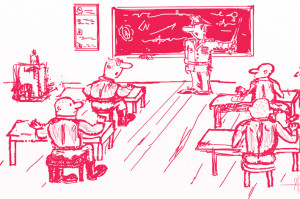 Не было Советской армии без политзанятий! Но кому дело до истории Древнего Рима, если основной задачей армейцев, от рядовых до генералов, была ассимиляция еврейского меньшинства?
Не было Советской армии без политзанятий! Но кому дело до истории Древнего Рима, если основной задачей армейцев, от рядовых до генералов, была ассимиляция еврейского меньшинства?
Нас, кто не додумался вписать в паспорт допустимую нацию, было всего четверо на 1500 других. Но ассимиляция затруднялась. Во-первых, время геройских подвигов уже вроде прошло, а новое не настало, поэтому воинское «арийское» нацбольшинство утверждало себя в основном со стаканом в руке. Во-вторых, меньшинство, скажем, вполне достойно владело стаканами, при этом умудрялись не увечить друг друга по пьяни и не попадать на губу (гауптвахту). В-третьих, наше еврейство оказалось и вовсе неприкасаемым.
Нет, то, что мы все заслужили значки воинской доблести (отличник армии, спортсмен и классный специалист), это большого значения не имело. Просто: 1) старший сержант Цыбульский Рома из Запорожья был одновременно тренером сборной части по самбо и зубным техником в нашей санчасти. Вроде понятно? 2) сержант Валера Евпаторийский (оказался Давидом) был поваром. Попади к нему в наряд на кухню, он такую Римскую империю в посудомойке покажет, что про тёмную вместе со светом Б-жьим забудешь, и не видать тебе до конца службы лишнего кусочка мяса; 3) Алька Питерский — штабной писарь, шифровальщик и дешифровальщик, то есть не командирским голосом, но каллиграфическим почерком в первый день службы распахнул двери штаба, где и надёжно прижился. И как его отколотить, если его даже к уборке казармы не подпускали; не приведи Господи пальчик поранит, вывихнет; 4) а я был рядовым, но в сборной части по боксу (в полутяжёлом весе) и личным водителем самого коменданта округа. Всё это мешало нашим воспитателям применить известные методы ассимиляции. Вкратце: внеочередные наряды, уборка туалетов и помещений в ночное время плюс наиболее эффективное — тёмная. То есть на спящего салабона набрасывают одеяло, вручную фиксируют кокон и колотят этот «пакет» сапогами, швабрами или кусками мыла, завёрнутыми в полотенце. Таким образом, на руках воспитателей следов нет.
Но, повторю, с нами эти эксперименты не проводили. Зато желание почесать о нас кулаки сводили к философско-религиозным спорам: как «евреи ихнего бога распяли», а потом «на крови ихних младенцев пекут свою мацу». Проще сказать, о Пасхе сами напомнили. И тогда я написал домой, чтобы прислали пакет… доказательств.
Сержант, как положено, прибыл со мной на почту. Раскрыл посылку. Сала, водки, вина и прочего нужного не обнаружил, а мацу пробовать побрезговал. Так и хранил я её до Пасхи. А потом, часа через два после ужина, как раз в тот момент, когда обсуждалась ещё одна вековая вина евреев — на еврейскую Пасху всегда плохая погода, я притащил из каптёрки мацу. И потому, что в нашем взводе всё было принято есть вместе, сам расхрустелся на всю казарму и другим предложил вкусить. Тут народ засмущался, заколебался, и тогда я настоял на экспертизе. Дал на пробу пол-листика нашим украинцам и молдаванам, кто прекрасно разбирался в кровяной колбасе. Ну и, покривились они, поморщились, сначала откусили по крошке, посмаковали, зачем-то кашицу пальцами перетирали, на свет просматривали, а потом запросили добавку. Дескать, сразу не разберёшь. Я дал. Вскоре они заявили, что в маце ничьей крови нет. Но надо проверить и другие пакеты…
Тут я должен напомнить: после армейского ужина от сытости не икают. Но и долго смотреть, как эксперты метут плод сомнительный — хрустят и причмокивают, аж стёкла в окнах дрожат, а обвинители и соседи (метеобатарея и сапёрная рота) глотают слюну, как в пустыне Сахара без капли воды, — это мне тоже не нравилось. Мацы мне прислали всего три пакета: две минуты — и ни мацы, ни духовного удовлетворения! А народ созрел основательно. Тем не менее обвинителям мацы, уже не обращая внимания на заявления, что я хороший еврей, а не жид, как другие, я пасхальный деликатес не дал. И тогда наша дискуссия плавно сместилась к мнению, что даже плохие евреи страдают от плохой погоды на Пасху. Плюс народная мудрость: «Весь апрель хорошей погоде не верь!» То есть не изменить людям погоды. И даже если евреев всех вырежут, всё равно солнышко днём и ночью не появится! И распятый еврей не воскреснет, и еды в магазинах не станет больше, и даже продавцы, которые неевреи, не перестанут обвешивать покупателей, их же кроя матом.
В общем, частично солдатское братство приняло мнение: как жрать, так сразу про кровь и погоду забудешь! Но маца как-никак иноверная! И потому, что никто из нееврейских специалистов не смог объяснить, откуда взялась разнонациональная и разновременная Пасха, я просто достал очередную поджаристую пластинку и принялся за еду с таким видом, будто только евреи имеют право раз в году после армейского ужина есть мацу, поплёвывая на отвратительную погоду. После этого народ и вовсе вплотную подсел ко мне и размурлыкался елейными голосами: и вправду национальные и религиозные разногласия — главная мировая беда. То есть хреновина, чтобы не сказать иначе — всё не от большого ума. А ведь не будь этого, то есть этой, и армия вроде как не нужна. То есть не помешает, чтобы грабить капиталистов, но без идеи в довесок тоже выглядит неубедительно. В смысле раз уж армия многонациональна, значит, все воины имеют право вкусить мацы, исключив недомолвки и подозрения. Тем более правило: всё из посылок всегда в общий котёл!
Что ж, сказал я, убедили! Но только в обмен. Так сказать, раз уж я товарищ достаточно ассимилированный, мацу меняю на сало и самогонку в пользу общака взвода доблестных химиков-разведчиков. То есть у кого посылки из дома припрятаны, скажем, на 1 Мая — тащи! И тогда — общий праздник!
Как проникали в подразделения посылки, где хранились, я разглашать не буду. Скажу только одно: в самых укромных уголках нашей краснознамённой воинской части вкусности ждали своего часа. С собакой не сыщешь! С другой стороны, праздник еврейской Пасхи из расчёта 4 на 1500 человек тоже не утвердить. Только заикнись, попадёшь на комсомольский актив. Но! Захотелось. И дело пошло. Засуетился народ, захотел запретного плода. Помчались воины шуршать по сусекам, вовсе забыв про погоду и жертвенных мальчиков! В сумме безвкусная пасхальная маца принесла в общак нашего особого подразделения свыше пяти кило неописуемого сала, буженины, колбас и (без головной боли не вспомнишь) три трёхлитровые банки — сами уже догадались чего. Но это ещё не всё!
Оказалось, что именно те, кто больше других ругал евреев за жадность и скопидомство как за некоммунистический подход к понятиям братства, — именно эти щедрые парни попались на шельмовстве! То есть спрятали своё в такие машины, которые даже стороной лишний раз обойти не захочешь. И это где-то мы понимали! Ведь основной контингент офицеров нашей бригады делал всё невозможное, дабы отобрать у воинов запрещённое зелье и неуставное питание. Но подчеркну: не считая моего майора и ещё нескольких офицеров, числом не больше пяти. А остальные ночи не спали, чтобы поймать солдатика на горячем — в смысле с питием и закусоном. Ой! Тут море историй! Но сейчас песня о том, что от офицеров заныкать — святое дело. А в тех машинах никто не искал — ни свои, ни офицеры. Там аммиак, окислители всякие, для борьбы с радиацией — смерть! Но и это как посмотреть. Армейский народ у нас был в большинстве деревенский. Они так рассуждали: сало дважды не умирает. А самогонка дезинфицирует и дегазирует лучше, чем аммиак! Впрочем, отсюда подробнее…
Итак. Особо ретивым специалистам по «еврейскому вопросу», даже из нашего взвода, мацу я не дал. Только в обмен. Но и у них интерес разгорелся! Ну и бочком потопали они из казармы. Дескать, у кого-то одолжат в другой батарее, а сами посылок не получали. Не запаслись. И тут наш сержант (с говорящей фамилией) нос и грудь зачесал. Как бы: «Что-то не чисто тут, пацаны, давно подозрения одолевают! Последнее время эти из гаража весёлыми возвращаются! А с какой радости? В химзащите и противогазе в любую погоду грузовик аммиачный отмывать и подкрашивать — не растанцуешься! А потом — видели? На обеде — без обычного энтузиазма! То есть нафталином тут пахнет. Отследить бы, разведать».
А у сержанта Кольки Чесалина нюх был на подлости. Сам честный парень. Из Крыма. Зачем потом подался в милицию — это загадка. Но сейчас речь о том, что приказ есть приказ. То есть мы остались комплектовать обменный фонд, поступающий от соседей (сапёрная рота и метеобатарея), а Паша Балущак и Витя Бойко ушли на задание. И вскоре, когда другие бойцы принесли свои доли закуски и выпивки и завозмущались, вкусив мацы, что вкуса в ней — ноль (вода и мука), тут и наши добытчики появились. Внесли пай — самогонки полфляги, и сала граммов под сто. Говорят, в долг нарыли. И только-только рты приоткрыли, чтобы высказать мнение об обмене, дескать, обул их пасхальный недруг по самые не могу, а тут и наши разведчики возвратились! Выследили орлов, где они причащались! И конфисковали из цистерн грузовиков (АРС-12 У, для специалистов) кроме уже перечисленных яств домашнего приготовления три бутыли самогона! И об отраве не заикайся! Ибо всё добросовестно запаковано в несколько слоёв специальной вощёной бумаги и два комплекта новенькой химзащиты. То есть даже без дозиметрических и дегазационных приборов на глаз видно, что продукты полностью сохранили талант деревенского кулинара и готовы к употреблению. Плюс радость: 1) химкостюмы учётные; 2) у гражданского населения, тяготеющего к рыбалке и охоте, цена каждому три литра спирта; 3) а подозрение пало на Пашу Балущака, завхимскладом. Ладно продал — поделись со взводом! Но тут раскрылось, кто стибрил. Пашка просто расцвёл! И Колька от зуда избавился — любил раскрывать всякие гадости!
С теми бойцами разборка пошла. Но недолго, потому что в казарме начался праздник: стихийный, но без пасхальных сказаний. (Сказание — «агада» на иврите, стоит запомнить.) Или маца аппетит возбудила, или просто решили армейское братство обмыть — кто это помнит?! Важно, что на фоне обилия, извлечённого из нашего грузовика, я предложил возвратить нашим соседям обменный фонд с условием перемещения пиршества на их личные территории. А то в нашем уголке уж слишком шумно вдруг стало, что взводу нашему не с руки.
После этого в награду за неурочный пир мне поощрение вышло от Колюни-сержанта.
– И вправду, — говорит он, — соседи — буйный народ, нам это не надо. Уходим в подполье. Зови туда нацменьшинство. Каждый может по гостю позвать, хоть командира бригады. Четыре на два — восемь, больше бутыли не проглотите. Остальное в общак. И с этими, нашими, ты решай: дать — не дать?
– А мне что? Простим! Их и так чуть удар не хватил, когда сало и самогонку риднэньку побачилы. Плеснём из конфиската по полстакана, как лекарство от а-по-плекс-… как его там… удара. Но на закуску — только мацу! Чтобы памятней было.
Помчал я к Цыбульскому.
– Подъём, — говорю, — по тревоге! Зови повара и писаря. Жду возле химсклада. Подробности там.
Правда, они подумали, что драка назрела по нацвопросам. Валера прибежал с толкачом, что картошку в котле мнут для пюре, а Алик где-то нашёл черенок от лопаты. Надёжная публика! Но я сказал, что Пасху отметим. С мацой. Впрочем, писарь засомневался: за Пасху могут и лычки лишить. Тогда я признался, что будет всё тайно у нас, как у масонов, и в меню не только маца. После этого Валера сбегал на кухню за парой буханок чёрного хлеба, луком и чесноком.
– Не представляю, — говорит, — как сало есть с мацой.
На следующий день мой майор сел было в машину, но пулей выскочил из неё, замахал пред носом фуражкой. Обошёл машину, посмотрел мне в глаза и сказал:
– Ого! — и прищурился, будто подсчитывал. — Рамадан, что ли? Или под Пасху?
– Нет, — я с трудом отыскал за щеками язык. — Под то не положено, что в календаре не стоит. За это лишают армейского звания, у кого есть. А у меня нет. Довезу как положено. А запах — стружечка чеснока… для профилактики от цинги.
«Стружечка» получилась не сразу. Пока я нашёл среднее между «ср» и «кружечкой», воздуха из меня вышло много. Поэтому майор ещё на шаг отступил от машины и согласился:
– Ладненько. Тогда я в казармы. По «сружечке» ясно, что сегодня рейда не будет (главной задачей майора было отлавливать пьяных солдат и самовольщиков за пределами части). Представляю, какой запах на гауптвахте. Мне уже доложили: битком! Ясно, неурочное приурочили. Значит, ты — в гараж. У меня под сиденьем «пирамидон», если надо — бери. В машине проспись. Если что, скажи: меня ждёшь. Чтоб ни одна собака. Уф! Ты же вроде не пьёшь?! Да и машину потом… одеколончиком освежи. Цинга цингой, а брезент провоняется.
Приказ я выполнил. Весь день валялся в машине, добивая нычку майора (трёхзвёздочный), взлетал и проваливался в какие-то ямы. В ушах шумело что-то большое, как море, и мощное, как прибой. Я вспоминал папино «водка плачет» и мычал в потолок боевого «газика» любимую песню папы и моего самого старшего брата — первенца Вадика:
На рейде родном стоит тишина,
А море окутал туман.
Споёмте, друзья, пусть нам
подпоёт
Седой боевой капитан.
Прощай, любимый город.
Уходим завтра в море.
И ранней порой мелькнёт
за кормой
Знакомый платок голубой…
А потом и другую:
Ты одессит, Мишка,
а это значит,
Что не страшны тебе
ни горе, ни беда,
Ведь ты моряк, Мишка,
моряк не плачет
И не теряет бодрость духа
никогда…
Когда-то в Одессе под эти песни многие улыбались и плакали, как бывает после Победы.
Годы промчались с тех пор. Моего майора-чечена вспоминаю с благодарностью и уважением. И Пасха та не забывается, будто сделал что-то достойное. Сколько раз ещё слышал дребедень про мацу на крови младенцев — не сосчитать.
Валентин ДОРМАН
Рисунки с сайта Okopka.ru



