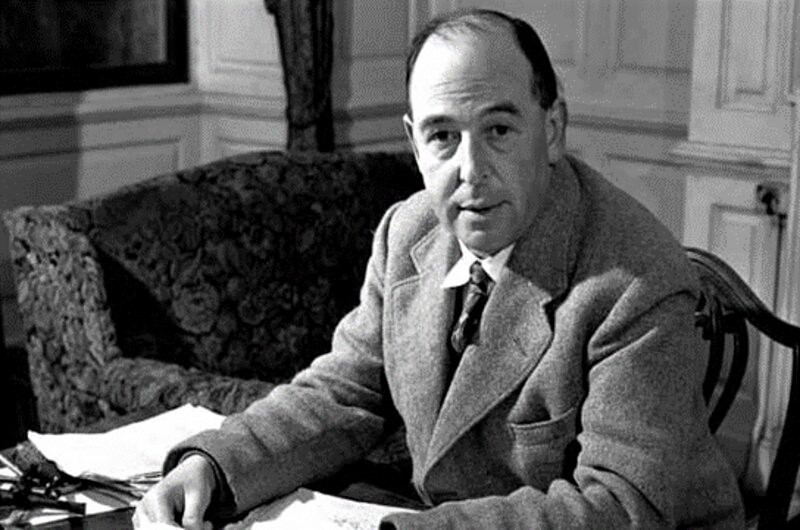
«В конце концов, — сказала Клэр, — есть же у них право на счастье». Толковали мы о том, что случилось недавно по соседству. Мистер М. бросил жену и ребенка, чтобы жениться на миссис Н., которая тоже развелась, чтобы выйти замуж за него. Никто не сомневался, что мистер М. и миссис Н. очень влюблены друг в друга. Если это не пройдет, и, если они не заболеют, разумно предположить, что они будут счастливы.
Не сомневались мы и в том, что в прежнем браке оба они были несчастливы. Миссис Н. очень любила мужа, но он был ранен на войне, потерял работу, а судя по сплетням — и мужскую силу. Миссис Н. долго с ним мучилась. Мучилась и миссис М.: она страшно подурнела — быть может, оттого что извелась с детьми и вечно болевшим мужем. Все знали, что М. — не из тех, кто бездумно бросит жену, словно шкурку от высосанной сливы. Он ужасно страдал. «Но сами посудите, — говорил он, — что я мог поделать? Имею же я, в конце концов, право на счастье. Не мог же я терять свой единственный шанс».
А я пошел домой, размышляя о праве на счастье. Сперва я подумал, что это так же странно, как право на удачу. Ведь счастье наше, как и несчастье, в огромной степени зависит от неподвластных нам обстоятельств, и «право на него» звучит для меня не более осмысленно, чем право на высокий рост или хорошую погоду.
Мне понятно, когда право — это некая свобода, обеспеченная законами общества. Например, я имею право ездить по шоссе, если оно не входит в частные владения. Понимаю я и право как некое мое требование, поддержанное законом и соотносимое с чьим-то обязательством. Скажем, я имею право получить от вас 100 фунтов, если вы мне их должны. Поскольку закон разрешает М. покинуть жену и соблазнить жену ближнего, значит, М. имеет на это право, и счастье тут ни при чем.
Но Клэр, конечно, говорила не об этом. Она хотела сказать, что у М. есть не только юридическое, но и нравственное право. Другими словами, Клэр — классический моралист в духе св. Фомы Аквината, Гроция, Хукера и Локка.
Она считает, что закон государства зиждется на естественном праве.
Я с ней согласен. По-моему, без этой предпосылки нет цивилизации. Законы станут без нее абсолютом. Их нельзя обсуждать, если нет мерила, эталона, точки отсчета. Слова, произнесенные Клэр, — благородного происхождения. Они дороги всем цивилизованным людям, в особенности — американцам, которые и сформулировали, что одно из прав человека — «право добиваться счастья». И тут-то мы подходим к самой сути.
Что имели в виду авторы этих прекрасных строк? Ясно, во всяком случае, чего они в виду не имели. Они не считали, что нужно добиваться счастья любыми средствами, включая убийство, кражу, предательство и клевету. На этом основании не может быть построено ни одно общество.
Тем самым они хотели сказать, что счастья можно добиваться любыми законными средствами, т. е. теми, которые согласны с естественным правом и с законами нации. Казалось бы, это — тавтология. Но в историческом контексте тавтологии нередко оказываются парадоксами. «Декларация прав» прежде всего отвергала политический принцип, долго правивший Европой, бросала вызов России и Австрии, тогдашней Англии, Франции Бурбонов. Она заявляла, что средства, допустимые для достижения счастья, может использовать всякий, без различия каст, сословий, веры и имущественного положения. В наш век, когда нация за нацией отказываются от этого принципа, я бы не назвал его пустой тавтологией. Вопрос же о законности средств остается, где он был. И тут я с Клэр не согласен. Я не считаю, что люди имеют ничем не ограниченное право на счастье.
Конечно, говоря о счастье, Клэр подразумевает счастье любовное — и потому, что она женщина, и по другой причине. Я в жизни не слышал, чтобы она применила этот принцип к чему-нибудь еще. Взгляды у нее довольно левые, и она пришла бы в ужас, если бы ей сказали, что, в конце концов, безжалостный капиталист имеет право на счастье, которое для него — в деньгах. Кроме того, она не терпит пьяниц и ни разу не подумала, что для них счастье — в выпивке. Наконец, многие ее приятельницы были бы очень счастливы (я сам это слышал), если бы высказали ей в лицо несколько горьких истин. Но вряд ли она снизойдет к их желанию.
На самом деле она просто повторяет то, что уже лет сорок твердит западный мир. Когда я был очень молод, все прогрессивные люди говорили как один: «К чему это ханжество? Надо смотреть на половую потребность, как на все наши прочие потребности». По простоте своей я им верил, но понял потом, что они имеют в виду совсем другое. Они имеют в виду, что к вышеупомянутой потребности надо относиться так, как мы ни к одной потребности не относимся. Цивилизованный человек всегда считал, что свои инстинкты и желания надо сдерживать. Если вы никогда не будете сдерживать инстинкта самосохранения, вас сочтут трусом. Если вы не будете сдерживать тяготения к наживе, вас сочтут жадным. Даже сну нельзя подчиняться, если вы — часовой. Но любая жестокость и любое предательство оправданны, если речь идет о влюбленности и страсти. Все это похоже на систему нравственности, согласно которой красть нельзя, но абрикосы красть можно. Если же вы начнете возражать, вам ответят рассуждениями или возгласами об истинности, красоте и даже святости страсти и обвинят вас в пуританском гнушении любовными радостями. Я этого упрека не приму. Если я считаю, что мальчики не должны красть абрикосы, значит ли это, что я вообще против абрикосов или против мальчиков? Быть может, я против краж?
Истинное положение дел затемняется и тем, что вопрос о мистере М. судят с позиции какой-то «любовной нравственности». Обкрадывая сад, мы не грешим против законов «фруктовой нравственности». Мы грешим против честности. Мистер М. согрешил против доверия, против благодарности и против обычной человечности.
Итак, наши любовные порывы — в особом положении. Они оправдывают все то, что при других обстоятельствах назвали бы безжалостным, нечестным и несправедливым. Я не считаю, что это верно, но причина этому есть, и вот какая.
По самой своей сути сильная влюбленность сулит нам несравненно больше, чем какая бы то ни было страсть. Все желания и страсти что-то сулят, но тут и сравнения быть не может. Влюбившись, мы убеждены, что не разлюбим никогда и пребывание с «ней» обеспечит не какие-то новые радости, а прочное и вечное счастье. Таким образом, на карту поставлено все. Если мы упустили этот шанс, жизнь наша прожита впустую. При одной этой мысли нам становится до смерти себя жалко.
Как на беду, обещания эти чаще всего не выполняются. Всякий взрослый человек знает, что все влюбленности проходят (кроме той, которую он испытывает сейчас). Мы прекрасно видим, чего стоят заверения наших друзей, что на сей раз это — настоящее. Мы знаем, что «это» иногда продолжалось, иногда — нет. Продолжается оно не потому, что так казалось поначалу. Когда двое людей обретают прочное счастье, они обязаны им не дикой влюбленности, а тому, что они — скажу попросту — хорошие люди, терпеливые, верные, милостивые, умеющие обуздывать себя и считаться друг с другом.
… Скажу еще о двух вещах. Первое: общество, в котором неверность не считается злом, в конечном счете бьет по женщинам. Что бы ни утверждали песенки и шутки, выдуманные мужчинами, женщина гораздо моногамнее нас. Там, где господствует свальный грех, ей много хуже, чем нам. Кроме того, она больше нас нуждается в домашнем счастье. То, чем она обычно держит мужчину — ее красота, — убывает год от года, а с нами все иначе, потому что женщинам, честно говоря, безразлична наша внешность. Словом, в беспощадной войне за любовь женщине хуже дважды: и ставка у неe выше, и проигрыш вероятней. Я не согласен с теми, кого возмущает нынешняя женская напористость. Мне просто еще жальче женщин — значит, очень уж трудно им бороться.
Второе: я не думаю, что на этом мы остановимся. Если мы хоть где-то возведем в абсолют «право на счастье», рано или поздно принцип этот заполонит все. Мы движемся к обществу, в котором признают законным всякое человеческое желание. А тогда, даже если техника и поможет нам сколько-то еще продержаться, цивилизацию нашу можно считать мертвой и (я даже не вправе сказать «к несчастью») она исчезнет с лица земли.
izbrannoe.com



 (голосовало: 2, средняя оценка: 3,50 из 5)
(голосовало: 2, средняя оценка: 3,50 из 5)

