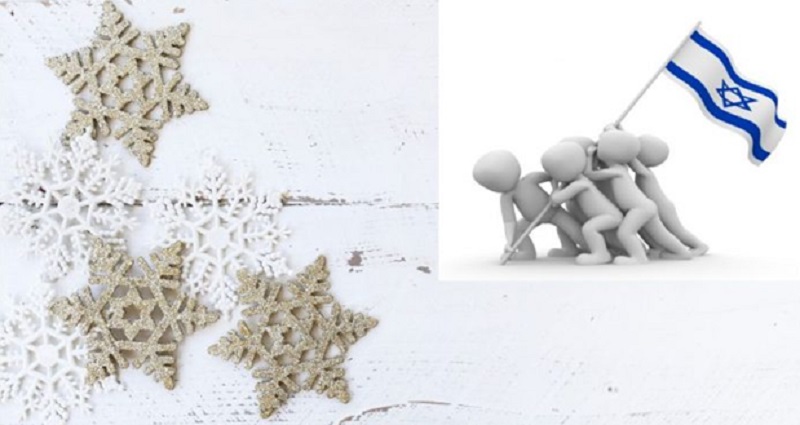
Кошмар генерала КГБ: действительно ли все до единой снежинки, падающие на советскую землю, имеют сионистскую форму, или это антисоветское измышление?
Былина. Возвращение советского юмора
Когда стемнело, заскочил Феликс, театральный художник лет на пять старше меня. Ученик, между прочим, Акимова, о котором рассказывал с упоением. На этот раз обычно спокойный и выдержанный приятель был в состоянии несколько ошалелом. Это я диагностировал по тому, что, войдя, сел, не здороваясь, на пол, и только минуты через четыре произнёс
— Здрасьте.
А еще через пару минут спросил:
— Водка есть?
Что тоже было для него необычно. Феликс был непьющий художник. Один в своем роде в своей профессии из всех, которые мне знакомы.
Верочка сделала бутербродик, на тарелку положила огурчик, налила рюмочку, после чего всю традиционную троицу: бутербродик, огурчик и рюмочку на фанерке, изображавшей подносик, поставила на пол перед сидящим на полу гостем. Феликс приподнял голову, опершись на левую руку, как древний грек на пиру, выпил родимую залпом и, кажется, не глотая, а заливая, закусил бутербродиком с отдельной колбаской (от которой отворачиваются кошки, но не советские люди) и начал рассказывать, что с ним сегодня произошло.
А произошло с ним вот что. Ни свет ни заря — часов в восемь утра, что для артистической братии не утро, а продолжение ночи — к нему на квартиру дворник в сопровождении мужчины в штатском, но с особистским лицом приносит повестку: явиться в Большой дом к четырем часам и ноль-ноль минутам сегодня же — к майору, фамилию которого Феликс разгласить побоялся. Но точно помнит, что она там была.
— Расписался я, — говорит, — и время как в прорубь нырнуло. Ровно без одной минуты четыре открыл зловещую дверь, ведущую в резиденцию ленинградского КГБ на Литейном. Откуда, сверив по паспорту личность, меня (то есть Феликса) повели по коридорам без окон, в конце и начале каждого сидел кагэбэшник. Вели, вели, поворачивая, на лифтах, то поднимаясь, то опускаясь, после чего привели в кабинет, в который раскрыли дверь.
В кабинетике за столом, напоминающим письменный, с лампой, устремленной на подследственного меня (как на тысячи приведенных сюда, начиная с 1933 года), но не включенной, а выключенной, сидел мужчина без опознавательных знаков. В смысле без формы, без фуражки и без погон. Здоровается. И произносит сакраментальное:
— Я из контрразведки.
— Из контрразведки? — переспросила Верочка. — Ты что, иностранный шпион? Или тебя для работы в загранке вербовать начали?
— Какая ты наивная девушка, — произнес я, погладив Верочку по голове, — они в кагэбэ все себя контрразведчиками называют. Не кураторами же стукачей. И не борцами с интеллигенцией. Продолжай, Феликс.
— Смотрит этот контрразведчик в мои еврейские глаза рентгеновским взором, задает несколько непонятно к чему ведущих вопросов, после чего, внезапно сменив улыбку на хмурость, вопрошает, полистав папку с, наверное, моим делом:
— Вы работали художником в театре на улице Рубинштейна?
— Работал.
— А сейчас?
— А сейчас не работаю.
— Стало быть, тунеядствуете?
— Ни в коем случае. Работаю по договорам. Художественно оформляю спектакли по всей нашей советской родине. От Чукотки до Самарканда. Последним оформил пьесу о Ленине — «Шестое июля» советского драматурга Шатрова. До этого — «Оптимистическую трагедию» в Норильске. И пьесу Афиногенова в Нальчике.
— Кого-кого? Афинно генова?
— К Афинам Афиногенов, товарищ майор, отношения не имеет. Патриотичный соцреалистический драматург. Спектакли, которые оформлял, были приняты горкомами, обкомами и крайкомами партии по месту их постановки. Могу и договорчики принести, если в этом причина нашего разговора.
— Об Афинном генове поговорим в другой раз. А сейчас отвечайте: вы были главным художником на постановке спектакля о Пугачёве?
— Да, был.
— Вы сабли для спектакля заказывали?
— Заказывал, кажется.
— Так заказывали или же не заказывали?
— Точно, заказывал.
— Где заказывали?
— В музее Суворова, где же ещё!
— Почему где же ещё?
— Потому что великий русский полководец Суворов по указу государыни Екатерины Великой подавил восстание Пугачева.
— Не хотите ли вы сказать, что великий русский полководец, любимец солдат и гражданского населения нашей страны Суворов, подавляя восстание Пугачева, был на стороне реакции и царизма?
— Я ничего такого не говорю. И вообще не говорю. Я делаю декорации. И антураж. По возможности — подлинный.
— И что же в вашем антураже о восстании Пугачёва подлинного?
— Сабли. Которыми русские солдаты под предводительством Суворова подавляли восстание Пугачева.
— И чья же взяла?
— Суворова, разумеется.
— Антисоветчина получается. В смысле антисоветская пьеса. Суворов, вроде как получается, реакционер.
— Никак нет, товарищ майор. В смысле не могу знать.
— И где они сейчас, заказанные вами сабли?
— Понятия не имею. Я ведь в этом драматическом театре уже года четыре как не работаю. И пропуск у меня отобрали. Так что к театру, заказавшему сабли, отношения не имею.
— Но на запросе о получении сабель стоит ваша подпись. Смотрите, — и показывает бумагу, которую, в самом деле, одним пальцем на пишущей машинке секретарши директора когда-то отбарабанил.
— Подтверждаете, что подпись ваша? — сурово произносит майор, включая лампу, направленную не на бумагу, а на меня.
— Подтверждаю.
— А на этом акте приемки сабель тоже стоит ваша подпись?
— Да, вроде, моя.
— И где же они сейчас, эти сабли, которыми любимец народа Суворов подавлял русское народное восстание под предводительством Пугачева?
— Откуда я знаю? Там после меня совсем другие люди работали. К тому же в этом театре на Рубинштейна еще и пожар был. И все декорации, и реквизит сгорели.
— То есть вы хотите сказать, что взятое вами из музея Генералиссимуса Суворова под вашу расписку народное достояние нашей советской родины бесследно исчезло? А может, и того хуже: расхищено? И находится в чьем-нибудь частном пользовании?! Да знаете, что за такие действия полагается по закону? (Тут мне почему-то стало нехорошо.)
— Товарищ майор, — говорю, — я в театре на Рубинштейна по договору работал. Договор закончился, после чего у меня никакого доступа не было не только к саблям, но и вообще к реквизиту.
Смотрю я на грозное лицо майора, и вижу, что по нему из конца в конец, с далекого права в еще более далекое лево, строевым шагом опять задвигалась мысль. И по меняющемуся выражению на оперативном лице начинаю понимать, что сажать меня этому кагэбэшнику нисколько не хочется.
— Так говорите, в театре между вашим уходом и сегодняшним временем пожар был?
— Был пожар.
— А акт о пожаре у вас имеется?
— У меня, разумеется, такого документика нет, и мне его никто не предъявит. Но вы наверняка можете получить его в дирекции театра или в управлении пожарной охраны за пару часов. Если запросите.
— Это хорошо, что пожар был — произнес почему-то контрразведывательный майор. И глубокомысленно замолчал.
— Слушай, художник — спросил он, меняя тон и, переходя на ты, — скажи честно: сабли эти из музея Генералиссимуса были стоящие?
— В историческом смысле, наверное, если хранились.
— А как материальные ценности? Из дамасской стали? А может, они были на эфесе с бриллиантами или другими драгоценными каменюками?
— Дерьмо были сабли — расслабленно говорю, чувствуя, что туча развеивается. — Ржавые и тупые. От самого слабого удара сгибались. На сцену выносить их было стыдно. А то некрасиво получалось и даже не очень патриотично: суворовские герои побеждают народное ополчение, а сабли российской армии гнутся от прикосновения к телу восставших крестьян. Которые в лаптях, без щитов и кольчуг.
— И как же вы вышли из положения?
— Сделали бутафорские сабли. Из дерева. Которые от прикосновения к ним не сгибались и не ломались. Но с виду — как подлинные. В смысле суворовские, которые в музее хранились и выданы под расписку.
— Ладно, художник, — резюмирует контрразведчик, — пиши объяснительную.
— А что писать-то?
— Про сабли. Про спектакль о Пугачеве. И про пожар обязательно. А про то, что ржавые были сабли, которыми товарищ Суворов подавил восстание Пугачева, направленное против существующей власти, писать не надо. Это будет поклёп на музеи. А это не входит в наши задачи.
Накарякал я что-то контре, в смысле разведчику, своим каллиграфическим почерком. Он взял бумагу. И по складам прочитал вслух.
— Нормально. Подписывай.
Я подписался.
Контрразведчик положил бумагу в папку с тесемками. И произнес:
— Дело закрыто.
— Ладно, художник — резюмирует контрразведчик — пиши объяснительную.
— А что писать-то?
— Про сабли. Про спектакль о Пугачеве. И про пожар обязательно. А про то, что ржавые были сабли, которыми товарищ Суворов подавил восстание Пугачева, направленное против существующей власти, писать не надо. Это будет поклёп на музеи, который не входит в наши задачи.
Накарякал я что-то контре, в смысле разведчику, своим каллиграфическим почерком. Он взял бумагу. И чуть ли не по слогам прочитал вслух.
— Нормально. Подписывай, — приказал.
Я подписался.
Контрразведчик положил бумагу в папку с тесемками. Закрыл папку. Завязал тесемочки бантиком. И произнес:
— Дело закрыто.
— Так я могу идти? — робко вопросил я, вставая.
— Можешь. Но только не сразу. Ты, вроде, художник?
— Художник.
— Деда Мороза со Снегурочкой можешь изобразить?
— Думаю, что могу.
— Тогда вот что. Вот у меня для тебя краски и ватман припасены. А я, между прочим, редактор нашей новогодней газеты всего нашего ведомства. Такая мне доверена честь. Так что сейчас мы с тобой пойдем, куда я тебя поведу, и ты стенгазету оформишь. После чего можешь оказаться свободным.
«Так не ради этого ли оформления стенгазеты Госбезопасности эта кагэбэшная сука меня вызывала, — подумал я про себя. — Чтобы оформил я её на дармовщину». Но вслух, разумеется, ничего не сказал. И лица не переменил — в смысле в лице не переменился. Хотя и с большим трудом.
Выходим. Идем по длиннющему коридору. Заходим в какую-то полузалу без окон. В которой на полу находится стенгазета с какими-то текстами и заголовками, из которых мне бросился в глаза самый крупный, хотя и был перевернут: «План прошлого года выполнен на 104 процента».
А план, по каким показателям — мелко и издалека неразборчиво. Жаль, что увидеть не удалось.
— Почему жаль? — спросила наивная Верочка.
— Потому что каждая графа этого перевыполнения наверняка совсуперсекретна. Но мы отвлеклись.
— Ты тут у двери постой, — приказывает майор, перехватив направление моего взгляда. — Что в газете написано, тебе читать не положено. Допуска к совсекретной работе у тебя нет. Поэтому тексты статей я от тебя закрою вот этой портьерой. А ты отвернись. А еще лучше зажмурься.
Повинуясь приказу, зажмурился я, отвернулся, и для верности руками глаза закрыл. Чтобы сомнений у тех, кто прослушивает и просматривает, в моей лояльности и патриотичности не было.
— Теперь иди сюда — слышу позывные майора. — Вот тут тебе доверяется нарисовать Деда Мороза. Тут ёлку. Снежинки повсюду. А тут Снегурочку.
Беру краски. Рисую минут восемь что-то предновогоднее, что за годы подработки художником мог бы с закрытыми глазами изобразить. А доведя творчество до завершающей стадии, останавливаю художественно-патриотическую работу и спрашиваю:
— Товарищ майор, разрешите задать вопрос. Деда Мороза рисовать в мундире или же без мундира?
— Какого еще мундира?
— Вашего рода войск.
— Хороший вопрос. Дед Мороз в форме нашего рода войск — такого на наших Новых годах еще не было.
Я примерился.
— А как же с тулупом? Может, вместо тулупа шинель изобразить? И во что обуть Деда Мороза? В валенки? Лапти? Или же в сапоги?
— Рисуй с сапогами и при тулупе.
— А как же с погонами? В каком звании изобразить деда Мороза? В смысле, какое ему присвоить?
— Какое у Деда Мороза звание? Погоди-ка, мне надо сходить посоветоваться. О звании Деда Мороза, а кстати, и его роде войск. Ты только под холст не заглядывай и что там написано, не читай. А то неприятностей лет на пять не оберешься.
Уходит и возвращается. А я тем временем успел изобразить половину Снегурочки. И штук двадцать снежинок.
— Генерал приказал: пусть дед Мороз будет с погонами генерал-майора. С одной генеральской звездой. Так же, как у меня, но побольше. Только не перестарайся в размере, чтобы за маршальскую звезду на погоне не приняли. Если главе нашего ведомства Деду Морозу как старшему по званию на новогодней елке нашего ведомства честь отдавать придется и перед ним встать, думаю, он этого не одобрит.
— Слушаюсь, товарищ майор.
Рисую минут пятнадцать под бдительным оком офицера госбезопасности.
— Ну, как получилось? — спрашиваю по завершению изображения Деда Мороза с погонами и мешком для подарков.
— Первый класс. Если вся стенгазета такая будет, можешь не сомневаться: в твою трудовую книжку будет от нашего ведомства занесена благодарность.
— Рад стараться, — бойко проговорил я, как в бронзе выливая слова. — И спохватившись, что это старорежимное обращение, поправился: — Служу Советскому Союзу!
После чего приступил к вырисовыванию ножек Снегурочки.
— Товарищ майор, позвольте обратиться к вам еще раз, — тарабаню.
— Разрешаю.
— А Снегурочку тоже при форме и в звании изобразить? Или в гражданской одежде?
— Гражданская Снегурочка при генерале Морозе? Это что же, Снегурочка вроде платного осведомителя, что ли?
— В мыслях такого не было.
— И зря. Неплохая идея. Начальство у нас юмор отлично распознает. Высоцкого слушает и даже с концертами приглашает.
— Так как же мне быть? Как прикажете, так и изобразим.
— Беру ответственность на себя. Рисуй в форме Снегурочку.
Но какое звание присвоим Снегурочке? Какого рода войск? Тоже госбезопасности? А может, стройбата? Или же санитарки?
— Рисуй Снегурочку нашего ведомства. Ответственность беру на себя.
— Есть рисовать Снегурочку вашего ведомства. А какой длины будет у нее платье? Может быть, мини-юбка?
Майор сначала побледнел, потом позеленел. По его широкому лицу мысль побежала в обратном направлении: слева направо. Как будто в его голове качнулся маятник.
— Это что же такое будет, намек на сексуальных разведчиц? Мысль игривая, но слишком секретная. Об этом надо посоветоваться с генералом.
И снова вышел строевым шагом за дверь.
Снегурочку приказано сделать штатской, — сказал майор контрразведки, вернувшись. — Она как бы на оперативном задании.
— Есть, на оперативном задании! — встав по стойке смирно, отрапортовал я.
Еще через полчаса работа была закончена и одобрена госбезопасником, который поправил китель, выпятил грудь и ушел приводить комиссию по приемке газеты. Вошли человек шесть. Все стрижены одинаково и с одинаковыми выражениями на физиях. И только по обращению друг к другу можно было понять, кто старший по званию.
— Газета сделана на отлично, — сказал самый старший и старый. — Разрешаю повешение (так и сказал… — язык-то профессиональный — гэбэшный).
— Товарищ генерал, разрешите обратиться, — раздался голос одного из одинаковых, словно по трафарету сделанных лиц.
— Разрешаю.
— Товарищ генерал, а почему звездочки на стенгазете органов государственной безопасности шестиконечные? Это что же, сионистская пропаганда?
Всем как-то сразу поплохело. Настолько, что лица гэбэшников побагровели, а на одном поверх покраснения выступил пот.
— Так ведь это не звездочки, товарищи офицеры и генерал, — говорю, приходя майору на выручку. — Это снежинки. А снежинки они всегда и всюду шестиконечные. Не только в России и не только в логове сионизма, Израиле, а повсюду. От Чукотки до Лондона.
— Вы в этом уверены? Вы что же, и в капиталистических странах бывали?
— Не был, товарищ генерал, но из наблюдений снежинок в городе трех революций Ленинграде на варежках с детства знаю доподлинно. Да и физики, думаю, подтвердят. Если запрос пошлете.
— А это идея в правильном направлении. Полковник Морозов, пошлите запрос директору Физико-технического института. Пунктом первым напишите вопрос: действительно ли все до единой снежинки, падающие на советскую землю, имеют сионистскую форму, или это антисоветское измышление? И второй: какие меры следует предпринять, чтобы падающие на головы ленинградцев снежинки пятиконечными сделать — как звезды на красном флаге и башнях Кремля?! Пусть составят техническое задание. Деньги на реализацию проекта особой важности обещаю пробить.
— Товарищ генерал, разрешите обратиться, — подало голос одно из лиц. —
У нас в актовом зале с прошлого года остались рулоны снежинок, соединённых веревочками. И все сионистские, в смысле с шестым концом. Их уже повесили даже. А как с этим сионистским снегом быть?
— Немедленно снять со стенок сионистскую пропаганду под видом снега. Уничтожить и сжечь.
— Есть — снять снежинки со стенок. А чем заменить? Портретами руководства нашего ведомства?
— Пятиконечным снегом, конечно. Опятиконечьте снежинки. Идите и исполняйте!
Два лица откозыряли и строевым шагом удалились за дверь. После чего генерал повернул китель ко мне. Вместе с плечами и головой.
— Сколько вам времени, товарищ художник, требуется на то, чтобы превратить снежинки с сионистской направленностью на новогодней газете в советские пятиконечные звезды? Полчаса хватит?
— Хватит, товарищ генерал.
— А пятиконечных снежинок из бумаги штук двести нарезать сможете, соединив их бечевкой, которую вам принесут мои подчиненные?
— Так точно, смогу, товарищ генерал. Вот только один вопрос:
«Какого цвета пятиконечный снег сделать? Белого или, может быть, патриотичного красного?»
— И того, и другого.
— А если какой-нибудь человек, который физику знает по институту, увидев пятиконечный снег, смеяться начнет?
— Среди наших людей таких наверняка не найдется. Пусть только попробует! Нет больше вопросов? Тогда приступайте.
… Еще через час газета вместе с художественным ее оформлением была принята к «повешению». Затем я нарезал на глаз, который у меня профессиональный алмаз, штук триста. Веревками их соединили в линейку по двадцать пять приведенные для этой цели ко мне в помощницы женщины моложавого возраста и кагэбэшного вида. После завершения выполнения задания государственной важности контрразведывательный майор дал мне пропуск, который держал в кармане уже заполненным и сопроводил до самого выхода из здания КГБ в Ленинград. Из ночи в вечер. Из непроглядной мглы в проглядные сумерки. А перед выходными дверями, ведущими из ведомства на Литейный проспект, пожал мне руку, пообещав, что сразу после Нового года в мою трудовую книжку от лица Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик будет занесена благодарность.
— Которую я ожидаю с ужасом, — завершил свой рассказ Феликс. — Мне только благодарности от КГБ в трудовой книжке не хватало для полного счастья. С такой благодарностью меня ни в один театр на работу точно не примут. До тех пор, пока твердо стоит советская власть. А значит, до пенсии. А может быть, и до смерти. Моей, разумеется, а не её. Потому что советская власть бессмертна!
Налил себе, непьющему, еще одну рюмку водки. И залпом опорожнил. Кажется, не глотая.
Юрий МАГАРШАК
1979–2019 гг.
Иллюстрация: pixabay.com



 (голосовало: 3, средняя оценка: 4,00 из 5)
(голосовало: 3, средняя оценка: 4,00 из 5)

Окончание будет или не будет опубликовано?
Блеск, особенно про пятиконечные снежинки!