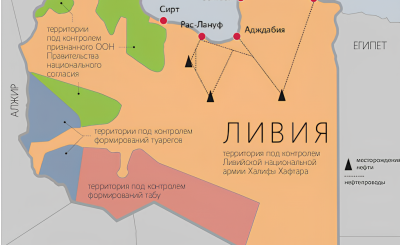Людмила Душкина
Родилась в России, жила в Казахстане. В 1996 году репатриировалась в Израиль. По профессии инженер-строитель. Пишет художественную прозу в разных жанрах. Имеет публикации.
«Звезды над местечком высоки и ярки …»
Мрак осязаем. Густой и вязкий, он наматывается на ноги, залепляет ноздри и рот, мешая двигаться и дышать. Наполненный множеством голосов мрак кричит, стонет, хохочет, шепчет, булькает, захлебываясь, униженно молит и матерится, проклиная. У мрака есть запах: крови, мочи, блевотины, пороха, сырой земли и водки. Цвет его — красный. Всех оттенков.
Из ночи в ночь, изо дня в день, в одном и том же бесконечном сне, продираясь сквозь мрак, Яков Гросс, начальник областного НКВД, упорно идёт к неясному, едва различимому пятнышку света. Идёт, отлично зная, что в итоге опять упрётся в стеклянную стену. Опять, в безумной надежде разбить стекло, будет лупить по нему вялыми кулаками. И опять тонкое стекло окажется прочней гранита. И тогда, размазывая по мутному, непрозрачному стеклу слёзы, он с огромным трудом протрёт пальцем крохотное, быстро исчезающее оконце. И припадёт к нему. Хотя бы одним глазком глянуть: что там за стеклом? А там… Горящие пасхальные свечи и святость субботы. Запах корицы в отцовской бороде. Штрудель с брусничным вареньем. Звон молочной струи о ведро. Гусиные шкварки на свежем хлебе. Зов шофара. Тфилин на запястье. Радостные голоса. И смех, и… А вот и отец. «Отец! Та-тэ!» — что есть силы кричит Яков. Зачем?..
— … Сорале, Сорале… Прости меня, Сорале, прости, — не сумел я уберечь от беды нашего мальчика, нашего фейгеле. Горе мне, горе… Кто же мог подумать, что вот так оно всё обернётся? Или я не любил его и не пестовал? Или не учил добру и смирению? Ах, Сорале, Сорале… А какой это рос замечательный ребёнок! А какой красивый! А умный! Ты помнишь, Сорале?.. Разве были в хедере умнее нашего Янкеле? Не было. И как можно было знать тогда, что мальчик оставит иешиву и уйдёт в красные комиссары? С тех пор наш сын болен — Г-сподь отнял у него разум. А у меня — покой. За что, Сорале? «Барух ата Адо-най Эло-эйну…» (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш…) — так, прижимая рукой неровно стучавшее сердце, говорил с умершей при родах женой Сарой старый Мендель.
Растревоженное коротким забытьем сердце, словно пойманная птица, то норовило сильным толчкам отбросить руку и вырваться на волю, то едва ощутимо трепыхалось под ладонью, сжавшись от страха. «Сорале, Сорале…».
Густая пыль, висевшая в душном кабинете, забивала пересушенное похмельем горло. Наждаком драла воспаленные от хронического недосыпания глаза. Противно скрипела на зубах. И не было от неё спасения. Суховей. А пыль, покрывшая всё вокруг, — будущий несобранный урожай. Разоренные засухой плодородные почвы.
Привычная ненависть к врагам, которые (а в этом он ни секунды не сомневался) устроили эту диверсию против народа, комом тошноты поднялась к гортани.
Поднявшись с дивана, на котором спал, не раздеваясь, Яков Гросс с отвращением попил тёплой воды из стоявшего на столе графина. Подошел к окну, раздвинул плотные шторы и в надежде на глоток свежего воздуха распахнул створки. Воспаленное кроваво-красное солнце над горизонтом даже через завесу бурой пыли на мгновение ослепило, усилив резь в глазах. Вечер или утро? Впрочем, какая разница. Горячий порыв ветра ударил в лицо и мгновенно раздул тлевшую в горле головню ненависти в костёр; и тот полыхнул чёрными языками пламени. Он, Яков, знает, чьи это происки. Они за всё ему заплатят, суки! Все! Без исключения!
Стуча каблуками хромовых сапожек, сшитых на заказ, в кабинет вошла личный секретарь Гросса Лиля, комсомольская выдвиженка, преданный общему делу, проверенный всем комсоставом комиссариата. Не отрывая взгляда, горящего несгибаемой верой в близкое светлое будущее, бросила на пыльный стол красную папку с чёрными завязками.
 — Товарищ Гросс, бумаги на подпись. Приказы, ордера.
— Товарищ Гросс, бумаги на подпись. Приказы, ордера.
Отойдя от окна, Яков привычным движением нагнул Лилю и грубо выплеснул в неё ненависть, пульсирующую в голове и теле. Сука.
… Сорале, Сорале. Устало моё бедное сердце стучать в одиночестве. Без тебя и без Яшеньки. Ушёл бы я уже к тебе, да не отпускает он меня, зовёт, наш сыночек. Только глаза прикрою, так и слышу его голосок: «Татэ! Татэ!». Плохо ему, Сорале, мальчику нашему, плохо — иначе зачем звать? Как думаешь, Сорале? Правильно. Нужен я ему. Нужен. Ещё знать бы, для чего? А у нас тут, у нас тут такое, Сорале. Прошлой ночью приехали на чёрной машине люди в форме и забрали с собой ребе Нахума, сына кузнеца Герша. И беременную Ривку, жену его, дочку покойного Пинхаса, стекольщика. Да-да, ту, что когда-то отказала нашему сыну. И всех деток его тоже посадили в машину, даже маленького Шмулика. Говорят, что все они — враги народа. Ты когда-нибудь слышала подобную глупость, Сорале? Вот и я не слышал. Все, все собрались и молча смотрели. Ребе сказал нам: «Молитесь». А шойхет Мотл, не скрываясь, плюнул на мои сапоги.
Поднявшись в кабинет, Яков Гросс первым делом подошёл к окну и задёрнул плотные шторы: после полумрака подвала зависшее над горизонтом раскаленное солнце слепило глаза. Утро? Или вечер? Да какая разница. Достал из стола бутылку водки, сорвал зубами пробку и сделал несколько жадных глотков. Не выпуская бутылки, сел на пыльный кожаный диван, глотнул ещё, вытянул ноги и устало откинулся на спинку. Чччёрт… Кто мог подумать, что этот пейсатый праведник окажется таким слабаком? Испустить дух на первом допросе… Хотя, чему тут удивляться? Он всегда был слабаком, этот Нёма, с детства. Хоть бы один звук издал. Так нет же, сволочь, так и сдох молчком. Не признавшись. Ничего не подписав. Контра недобитая. Недоносок поганый! И что только нашла в нём эта вечно брюхатая никейва?.. Ну, ничего, Б-гом избранные, вы у меня ещё…
— Товарищ Гросс, к вам посетитель. С утра сидит.
— Я что, неясно сказал: не бес-по-ко-ить? Не поняла? Гнать! Всех гнать к чёртовой матери! Чего стоишь?
— Он говорит, что он — ваш отец.
— Кто? Отец? Тем более — гнать! У меня нет отца! У меня нет ничего общего с этим народом!
Оторвав взгляд от светлого будущего, Лиля одобрительно посмотрела на Гросса; и из её зрачков, обычно непроницаемых, неконтролируемо потёк, заполняя всё вокруг, мрак. Отшатнувшись, Гросс схватился за кобуру.
— Пшшшла вон, сука!
Рванул дрожавшими пальцами верхнюю пуговицу гимнастерки в ржавых пятнах, захлебываясь, допил остатки водки и провалился в свой привычный густой и вязкий туман — «Та-тэ…».
… Сорале, Сорале, прости, что молчал эти дни — не мог… боялся сказать тебе, что потерял нашего сына. Навсегда. Я поехал к нему на службу, Сорале, чтобы говорить за ребе и его семью. Я ждал целый день. Никуда не отходил. Даже в уборную. А он прошёл мимо. Не узнать родного отца — да как такое может быть, Сорале? Не понимаешь? И я не понял. Проглотил обиду и напомнил ему, что я его папа. А он велел меня прогнать. Ты можешь в такое поверить? Чтобы наш Янкеле прогнал своего папу? Не можешь? И я не мог. Зачем тогда звать? Он сильно постарел и плохо выглядит, очень плохо, наш Янкеле. И ещё. Кузнецу пришла бумага с печатью, что сын его Нахум умер в тюрьме от сердечного приступа. Герш ездил забрать тело, похоронить, как положено, но ему отказали. А когда начал просить за внуков, Яков распорядился вытолкать Герша взашей. А ведь кузнец носил его на руках, когда Яша был ребёнком. На одной руке — своего сына Нёму, а на другой — нашего. Ты помнишь, Сорале? Как Яков мог сотворить такое? Или он не еврей? Наш мальчик ослеп, Сорале! Не глазами — сердцем. Кто порвёт рубашку у себя на груди, когда меня положат в землю? Кто отсидит шиву по моей душе? Никто. Как жить дальше? Что делать, Сорале? Чем я могу помочь нашему мальчику? Дай мне знак!
Гигантская молния разорвала пылевую завесу и осветила ночь. Потом ещё одна. И ещё. Выйдя во двор, Мендель стоял и смотрел, как огненные плети хлещут сухое небо.
— Ты тоже так думаешь? Спасибо, Сорале.
Выйдя из дому рано утром, уже к вечеру того же дня Мендель добрался до нужного места. Закутанная в платки женщина — то ли жена, то ли дочь хозяина, ничего не спрашивая, проводила его к двери в одну из комнат небольшого вросшего в землю дома.
Постучав, Мендель робко приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В тёмной комнате с единственной тускло горевшей свечой, низко склонившись над раскрытой Книгой и водя пальцами по её строкам, сидел реб Эфраим — загадочный старец, обладатель тайного Знания, тот, чьё имя всегда произносили шёпотом. Сглотнув липкую слюну, перемешанную с пылью, Мендель обратился к старцу со словами приветствия:
— Мир тебе и благословение, уважаемый реб Эфраим! Я Мендель, сын Баруха и Малки, пекарь из…
— Я знаю, кто ты.
Подняв голову, старец повернулся и посмотрел на Менделя чёрными стёклами очков.
— И тебе мир и благословение, сын Баруха и Малки! И, словно прочитав его мысли, с улыбкой добавил: «Да. Я давно слеп. Но у меня нет нужды читать Книгу глазами. Я знаю на память каждое слово. Что привело тебя ко мне? Говори».
— Ребе, я потерял единственного сына — мой мальчик заблудился во мраке. Помоги ему, ребе, пролей Б–жественный свет на путь души его. Прошу тебя!
— Ты уверен, что хорошо понимаешь, о чём просишь? Ты должен серьезно подумать.
— Я знаю, о чём прошу. Я много думал. И спросил совета у жены, его матери. Она согласна.
— И ты пришел стать пред Б-гом свидетелем обвинения Якова, сына своего?
— Да. Я свидетельствую против сына моего, Якова Гросса и прошу справедливости у Г-спода, потому как «нет у еврея права казнить еврея».
— Ну, что же. Я знал, что ты придёшь. У меня всё готово для таинства. Ночь спустилась. Люди собрались и ждут. А завтра, до захода солнца, мы повторим обряд на глазах Якова, сына Менделя и Сары. Ибо заповедано в Книге Б-гом нашим единым: «Не проклинай глухого и не ставь препятствий перед слепым».
Сердце, словно пойманная птица, то норовило вырваться на волю, то едва ощутимо трепыхалось под ладонью. Мучительно пульсировало в висках. Да что за день сегодня?
Протянув вялую руку, Яков Гросс придвинул к себе красную папку с чёрными завязками. Вот они, «местечковые богословы», все как один. Доигрались, голубчики. Ну что ж, приступим? Устойчивая ненависть к врагам неожиданно исчезла, оставив после себя пустоту и усталость. Может, завтра? Что решает один день? Нет. Сегодня. Всех. До единого.
Открылась дверь и появилась Лиля, которую он посылал за водкой: ей, единственной, позволялось входить без стука. Прогрохотав каблуками по воспаленному мозгу Гросса, подошла она к столу начальника и бухнула на него бутылку «рыковки».
— Всё? Или..?
Невольно сморщившись от боли, Яков придержал руками голову, готовую расколоться на мелкие кусочки.
— Товарищ Гросс!
— Ну что ещё? Сказал же — свободна.
— Там, на улице, какие-то странные люди. Спрашивают вас.
— Меня? Что хотят?
— Ничего. Просили передать. Вспомнила! Пульса дэнура. Кажется.
— Что? Пульса дэнура? (магическое таинство, наказание на уровне нефизического сущностного мира, удар «огненной плетью», Б-жественный свет, молитва-проклятие и др.)
Медленно, как во сне, не чувствуя тела, Яков Гросс поднялся со стула и, разрывая руками сгустившийся мрак, метнулся к окну. Приник к пыльному непрозрачному стеклу — что там, за стеклом?
А там за стеклом, на площади перед комиссариатом, стояли люди. Десять мужчин. Девять в чёрном и один с покрытой талитом головой — в белом. Стояли и молча смотрели на окно. Девять евреев в праздничной одежде, пришедших его освободить. Нет. Восемь. Девятым был отец, главный проситель перед Г-сподом.
Увидев Якова, отец дал знак человеку в белом, и тот запел. Остальные девять подхватили песнь.
Не в силах сдвинуться с места, Яков Гросс стоял и завороженно смотрел, как на его глазах творится чудо. Слабый пульсирующий свет, рожденный песней белого старца, охватил всю группу поющих. Наращивая мощь, с каждой пульсацией, вышел за пределы площади, легонько ударил в окно, без труда разбив мутное стекло на мириады сверкающих осколков. И больше не встречая сопротивления, взорвался в голове Якова тысячами пасхальных свечей, прогнав мрак и избавив от боли. Потом поднялся выше, коснулся неба и пролился на землю долгожданным очищающим дождём.
Обрывая шторы, Гросс начал медленно оседать на пол. «Янкеле!» — заботливые руки отца, как в детстве, не дали упасть, подхватили и прижали к груди. Зарывшись лицом в родную бороду, пахнувшую корицей, Яков счастливо засмеялся: «Татэ…».
Хоронили начальника областного НКВД, коммуниста Якова Гросса по светским обычаям: в красном гробу, с венками, речами и оружейным салютом. Только всё это уже не имело никакого значения.
А в это же самое время на скромном местечковом кладбище, среди каменных деревьев с обрубленными ветвями, отпевали старика Менделя, с легким сердцем ушедшего к жене и сыну. И когда, прочитав Кадиш, опускали тело в могилу, шойхет Мотл порвал рубашку у себя на груди. А потом, как положено, не вставая с пола, отсидел шиву.
Сорале, Сорале…
Людмила ДУШКИНА