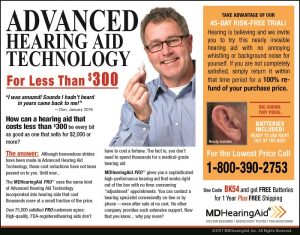Все мы жалуемся на старость. Дескать, суставы болят. Одышка. Память негодная. Сон нарушен. От секса вообще одни воспоминания остались. Короче, начнёшь перечислять свои старческие неприятности — уже не остановишься. Но, я вам скажу, это всё полбеды. А самое ужасное — то, что начинают умирать друзья. Прямо — как сговорились.
Вот на днях узнаю, что смертельно болен мой старый друг Нюма. И страшная развязка близка. Доходят слухи, что он ещё в полном сознании, лежит дома и никого не желает видеть, кроме приходящих медсестёр, которые за ним ухаживают 24 часа в сутки. И тут вдруг звонит мне одна из этих медсестёр и говорит, что несчастный Нюма хочет, чтобы я к нему немедленно приехал. Только я, и никто более. И я, конечно, бросаю все свои дела, тем более что никаких дел у меня нет, и лечу к своему другу, с которым нас разбросала судьба по разным штатам и разным часовым поясам, и с которым мы не виделись много лет. А может, десятков лет. Кто в нашем возрасте считает?
Сделав глубокий вдох, я на цыпочках вхожу в дом своего любимого друга. Нюма лежит на диване, бледный и безобразно постаревший за те годы, что мы не виделись. Я сажусь рядом. Он берёт меня за руку. В его глазах слёзы.
— Старик, — говорит он полушепотом, — спасибо, что приехал. — Я позвал тебя, чтобы исповедоваться перед смертью.
— Кому, мне?
— Ну да, тебе. Больше мне некому исповедоваться. Это очень важно. Я хочу умереть с чистой совестью. Ты не против?
— Против чего — чтобы ты умирал? Категорически против.
— Нет, я про совесть, — говорит он, поморщившись. — Ты мой самый близкий друг. Я перед смертью должен тебе во всём признаться.
— В чём именно?
— Ты меня простишь, старик?
— Конечно, прощу. Скажи, за что?
Нюма глубоко вздыхает и отворачивается к стене.
— Мне трудно об этом вспоминать, — глухо говорит он. — Но это очень важно, чтобы ты меня простил.
— Хорошо, считай, что уже простил. За что?
— За то, что я однажды переспал с твоей женой.
Наступает вязкое молчание. Я понимаю, что надо что-то сказать. Наверно, что-нибудь этакое, благородное и всепрощающее.
— Ну что ж, переспал так переспал, — наконец говорю я фальшиво дружелюбным тоном. Сейчас это уже не имеет значения, тем более что её давно нет на свете.
И чтобы поддержать разговор и окончательно успокоить терзающую Нюму совесть, задаю неуместный вопрос:
— И как это было?
— Ты мой самый близкий друг, — говорит Нюма. — Я не хочу тебя обидеть, но должен признаться: было так себе. Поэтому у меня с ней это никогда больше не повторялось.
— Знаешь что, — говорю я со вздохом, — ты мой самый близкий друг, и я тоже должен признаться: я тебя хорошо понимаю. У меня с ней тоже было так себе. Мы, конечно, любили друг друга. И прожили счастливую жизнь. И всё у нас было прекрасно. Всё, кроме секса. Поэтому я в молодости того… погуливал, если ты помнишь. В основном, с чужими жёнами.
— А с кем именно? — спрашивает мой друг, проявляя живое любопытство, не свойственное умирающему.
— Ну… с разными. Зачем тебе это знать?
— Просто интересно. Среди них были наши общие знакомые?
— Конечно. У нас все знакомые — общие.
— Кто именно? Не беспокойся, я уже никому не скажу, сам понимаешь. Может, моя жена тоже была в их числе?
— Погоди, кто кого исповедует, я тебя или ты меня? — говорю я, начиная раздражаться.
— Неважно. Скажи — было дело с моей женой?
— Слушай, отстань ты со своей женой.
— Нечего увиливать! — сердится Нюма. — Признайся, было дело? Ну, скажи честно: было? Всё равно её уже нет на свете, чего теперь скрывать?
— Может, поговорим о чём-нибудь другом? Скажи, например, ты лично веришь в загробную жизнь?
— Сволочь ты, — огорчается Нюма. — А ещё друг называется. Я с тобой всерьёз, а ты мне — про загробную жизнь. Отвечай, спал с моей женой? Ну, признайся, чего тебе стоит!
— Ладно, так и быть, — говорю я, чтобы отвязаться от надоедливого Нюмы. — Было дело. Спал.
Моё признание неожиданно приводит Нюму в восторг.
— Я так и знал! Я так и знал! — радостно кричит он, забыв о своём умирании. — Я всегда это подозревал! Я это нюхом чуял!
Я молчу, и Нюма тоже умолкает, заметив, что я не разделяю его восторга.
— Ладно, не обижайся, — наконец, говорит он. — Просто хотелось перед смертью поделиться мироощущением.
— А ты не мог бы мироощущать на какую-нибудь другую тему?
— Ну так что, ты меня прощаешь? Я могу умереть с чистой совестью?
— Прощаю, прощаю. Ты — меня, я — тебя. Умирай на здоровье. Это всё?
— Не совсем. Ты мой самый близкий друг, и я перед смертью должен признаться ещё кое в чём: я однажды переспал с твоей матерью тоже.
— Ты с ума сошёл! Идиот! — кричу я, забыв, что сижу у постели умирающего. — Когда ты успел?
— Давно, — вздыхает Нюма. — Мы ещё студентами были. Твой отец был в командировке. Я зашёл к тебе — не помню зачем, а тебя дома не оказалось. Было утро, твоя мать только встала, была в голубом халате.
— Голубого халата у неё не было.
— В голубом, я точно помню. Ну, и тогда…
— Хватит! Скотина! Как долго это продолжалось?
— Довольно долго. Минут двадцать.
— Не это. Как долго продолжалась ваша связь?
— Она не продолжалась. Это был единственный раз.
Он замолчал. Я тоже молчал, чувствуя, как к горлу подступает лёгкая тошнота. Нюма первый нарушил паузу.
— Ну что, — говорит, — прощаешь меня?
Я пожал плечами и отвернулся, чтобы скрыть отвращение.
— Как тебе сказать, — говорю. — Я бы, конечно, набил тебе морду, если бы ты не умирал. Но раз уж умираешь, то, так и быть, прощаю. Хорошо, что у меня нет сестры.
— Вообще, знаешь что? — говорит мой друг, и его окрепший голос неожиданно приобретает мажорную тональность. — Это мне первый врач сказал, что я умираю. А второй сказал, что я вполне могу поправиться.Так что, не теряй надежды. Может, ещё набьешь.
На лице его появляется слабая улыбка, и я вдруг замечаю, что не так уж сильно он постарел, как мне показалось вначале. Я говорю:
— Если не умираешь, зачем ты валяешь дурака?
— На всякий случай. Но, вообще-то, я второму врачу больше доверяю.
— А к третьему ты не обращался?
— Обращался. Но он оказался плохим врачом.
— Что он сказал?
— Что я вообще здоров и, кроме Альцгеймера, у меня ничего нет.
Я поднимаюсь с кровати.
— Подожди! — Нюма хватает меня за руку. Движения его стремительны, а пальцы цепки. — Подожди, не уходи. Я ещё не всё сказал. Мне надо сделать самое главное признание.
— Знаешь что, — говорю я, — хватит признаний. Я тебя и так прощаю, оптом. Собрался умирать, так умирай и не приставай со своими признаниями.
Тут умирающий Нюма сбрасывает с себя плед и садится на диван.

— Послушай, — говорит он. — Вот моё последнее признание: я на самом деле здоров и не собираюсь умирать. Но мы слишком давно не виделись и даже не разговаривали. Это ужасно. Ведь ты для меня всегда был самым близким человеком на свете. Ближе, чем жена. Был и есть. Надеюсь, что я для тебя — тоже. Мы живём в обществе, опутанном нелепыми традициями. Обрати внимание: когда человек умирает, на похороны съезжаются все его друзья, приятели, бывшие коллеги, знакомые и полузнакомые. Приезжает столько народу, сколько он никогда в жизни не видел одновременно. Они приезжают прощаться с ним, но какой в этом смысл? Он с ними попрощаться не может. Они его больше не интересуют. Они, может быть, интересовали его все предыдущие годы, когда он жил в своём тоскливом одиночестве. Но тогда никто не приходил — ни прощаться, ни здороваться, ни исповедоваться. Какой может быть интерес к живым? И вот — даже ты. Ведь не сказали бы тебе, что я умираю, разве ты когда-нибудь прилетел? Просто так, без трагедий и слёз, просто, чтобы обняться и поговорить о жизни. Да ни за что! А ведь для меня важнее всего на свете — увидеть тебя, самого близкого мне человека. Надеюсь, для тебя тоже.
— Да, да, конечно, — бормочу я, думая, как бы поскорее уйти. — Не иначе как от большой дружбы ты всю мою семью пере…
— Замолчи, Мишка! — обрывает меня поздоровевший Нюма. — Ты помнишь, как много лет назад ты мне сказал: «Старик нам суждено быть вместе до смерти»?
— Извини, не помню.
— Ну как же! Это было в студенческие годы, на летней практике. Кажется, в Вологде.
— Я никогда не был в Вологде.
— Ну, значит, в Волгограде.
— Там я тоже не был.
— Перестань притворяться, Мишка! Ты всё прекрасно помнишь! Конечно, память нам всем изменяет, но не до такой степени.
— Как видишь, до такой,. Извини, мне пора. Самолёт через два часа.
Наспех обняв Нюму, я выхожу на улицу. Светит солнце, чирикают воробьи, и меня охватывает странное чувство, какая-то мучительная смесь радости и скорби. Радости — оттого, что мой друг жив, и скорби — оттого, что он фактически умер. Он — это уже не он. Меня зовут Андрей.
Александр МАТЛИН
Рисунки Вальдемара КРЮГЕРА