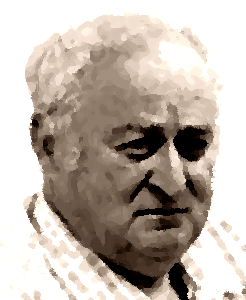Трамвай, первый номер, уже сворачивал с Первомайской на Пролетарскую. Поблизости на дороге машин видно не было, и чтобы успеть, они рванули через мокрый перекресток на красный свет. Но прибежали слишком рано, пришлось ждать с минуту – посадку Вовка скомандовал, когда уже кондуктор дал звоночком сигнал отправления. Заскочили на переднюю площадку второго вагона трехвагонной сцепки и забились в угол, прячась от кондукторши за взрослыми дядями и тетями.
— Ты смотри назад, в наш вагон, — продолжал командовать Вовка, — а я буду наблюдать через окна, что в первом. Если увидишь контролера, сразу прыгаем…
Контролер, однако, не появился, и через две остановки Вовка благополучно вышел возле своей Жуковской, где на углу сидел его отец, пожилой бородатый узбек, и торговал семечками. Левику оставалось проехать зайцем еще две остановки, и эти несколько минут без руководящего товарища тянулись, как ему казалось, бесконечно.
Он почти с ужасом представлял себе, как появляется контролер, и ему, зайцу, нужно спрыгивать из вагона на ходу, и он, конечно, попадает под колеса трамвая, ему, разумеется, отрезает ноги… это было настолько ужасно, что он твердо решил сразу сдаться. Но ведь и это — позор, наверно, отведут в милицию?..
Но паниковал зря – не было никакого контролера, а кондукторша не добралась до него сквозь толпу. Как только трамвай остановился на его остановке, он выскочил напротив мужской школы, большого здания с куполом, и побежал домой, подгоняемый дождем, который, собственно, и стал главной причиной поездки в трамвае. А так, обычно, он ходил провожать Вовку, зачастую удлиняя дорогу через трамвайный парк, где было много чего интересного… Главное, было успеть прийти домой через 45 минут после окончания уроков, иначе бабушка очень ругалась.
На этот раз благодаря непогоде и трамваю он пришел даже раньше контрольного срока.
Бабушка, как всегда, возилась у плиты, и ее любимый репродуктор был включен, и играла какая-то печальная музыка. Бабушка была явно чем-то расстроена. Левик переоделся, вымыл руки под медным рукомойником и сел за стол. Она молча поставила ему какую-то еду. Обычно бабушка расспрашивала его, что было в школе, то да се, но сегодня с ней что-то произошло. Наконец, когда Левик поел, она заговорила.
— Знаешь, Лева, большое горе. Тяжело заболел Сталин. Сегодня утром сказали. И все время играет печальная музыка, и каждый час передают бюллетени о его здоровье…
Остаток дня был грустный – за окном дождь, в репродукторе сменялись невеселая музыка и голос Левитана, рассказывающий о пульсе товарища Сталина. Мама осталась в больнице на дежурство, бабушка молча шила.
Среди ночи дождь перешел в снег, и утром Левику пришлось одеть ненавистные боты, чтобы пробираться рано утром в школу по мокрой каше.
Класс был завешан стенными газетами, посвященными, недавно прошедшему очередному юбилею смерти великого вождя – дедушки Ленина. Половину этих газет сделала мама.
Как-то после нового года, она собралась в кино с рыжим дядей Яшей, электромонтером из ДК железнодорожников. И на Ленинской, неподалеку от кинотеатра «Искра», зимняя гололедица сделала свое черное дело: мама поскользнулась, и дядя Яша не успел удержать ее. Она упала и сломала ногу.
После этого мама долго была дома – в гипсе и с костылем. Левик был даже рад, обычно мама много работала, и с ним занималась только бабушка. А тут мама читала ему, клеила разные штучки из «Круглого года» и сделала несколько стенгазет, на украшение которых ушла вся фольга от горького, казавшегося ему несъедобным рижского шоколада, множество плиток которого натаскали маме посещавшие ее родные и знакомые.
Фольга была красивая – с одной стороны обычная, серебряная, а с другой – золотая или малиновая. Мама вырезала из нее буквы для заголовков газет. А в «Круглом годе» нашлось немало картинок с Лениным, Сталиным или с ними обоими. Вот и получились фотогазеты… Ольга Николаевна даже хвалила за это Левика перед всем классом…
…Сегодня все ученики пришли необычно рано, даже Эдик Мартынкин, пpотив обыкновения, не опоздал. Дети молча рассаживались по местам, девчонки не сплетничали, мальчишки не бегали по классу. Когда пришла Ольга Николаевна, звеньевые без обычной торжественности доложили старосте Лидке Пирожковой о санитарном состоянии ребят в их звеньях, а та вяло отрапортовал учительнице.
— Ребята, — сказала Ольга Николаевна, — сегодня вместо урока чтения я расскажу вам, как в двадцать четвертом году мы хоронили товарища Ленина. Я тогда жила в Москве…
Это был ее коронный и любимый рассказ, который они уже неоднократно слышали во время ленинского юбилея. Но теперь она акцентировала внимание на клятве, данной товарищем Сталиным над гробом великого вождя. И она рассказывала это так, будто сама давала эту клятву вместо товарища Сталина…
Мама пришла из больницы в четыре, бабушка захлопотала у стола, но мама устало сказала, что не хочет есть, и что все очень плохо.
Утром приехал заврайздравом Иткин и привез приказ о снятии Берты, и теперь временно вместо нее назначена новенькая, парторг Антонина Ивановна, проработавшая в больнице всего месяца три.
Левику было непонятно, почему мама недовольна – ему не нравилась мамина главврачиха Берта Моисеевна, он даже боялся ее. Это была толстая старуха с громким грубым голосом, по словам мамы, вечно всем недовольная и кричавшая на врачей, сестер и санитарок. Зимой и летом она носила, даже под халатом, темный в полоску «английский» костюм, пиджак которого был увешан орденами и медалями, полученными ею на войне, которую она прошла от Москвы до Берлина.
Во время собрания, проведенного Иткиным, медсестра Бела что-то шепнула маме на идише, мама даже не расслышала что, но врач Марья Степановна громко сказала, чтобы они прекратили переговариваться на своем американском языке.
Короче, мама была очень не в духе. После той злополучной поломки ноги что-то у них с дядей Яшей расстроилось, и устав от полутора суток на работе, она рано легла спать…
Репродуктор передавал грустную и торжественную музыку.
Ночью опять сыпал снег.
Следующий день бы уныл и сер. Потеплело. Снег таял. Как-то скучно шли занятия. На уроке чтения Ольга Николаевна попросила детей рассказывать стихи о Сталине, кто что знает. Левик прочитал новогоднее:
«…бьют часы двенадцать раз.
Новый год в Кремле встречая, Сталин думает о нас…»…
…Дома из бабушкиного репродуктора лилась торжественная и грустная мелодия…
Утром Левик шел в школу, болтая с Лидкой Пирожковой, жившей неподалеку, на улице Шевченко. Ветер гнал по синему небу облака, вставало солнце.
В середине первого урока в класс неожиданно вошли директор — всеобщая любимица, красавица Бела Ароновна и гроза школы — старшая завучиха, историчка Вера Алексееевна. Бела Ароновна была вся в слезах, и от нее пахло валерьянкой. Лицо Веры Алексеевны было сурово и серо.
— Дети… — начала Бела Ароновна и разрыдалась.
Вера Алексеевна косо посмотрела на нее и взяла бразды в свои руки.
— Дети, — сказала она, — только что передали сообщение о том, что остановилось сердце нашего великого вождя и учителя, товарища Сталина!
И горло ее задергалось в конвульсиях.
Ольга Николаевна расстегнула сумочку, выдернула платок и закрыла им глаза.
Бела Ароновна с Верой Алексеевной под ручку побрели в соседний класс.
Сашка Вильдман выдернул из пышной рыжей косы сидевшей впереди Нинки Беккер черную форменную ленточку и быстро прикнопил ее к стенгазетному портрету Сталина, на котором в прошлый Первомай на трибуне Мавзолея вождя целовала ученица первого класса Вера Кондакова. Тут же его подвиг повторили Эдик Мартынкин и Генка Краснов, выдрав ленточки из кос Светки Бабкиной и Наташки Гулавы. А потом уже все остальные мальчишки, включая Левика и его друга Вовку Кадырова, стали гоняться за девчонками, добывая ленточки из их кос и украшая многочисленные портреты великого вождя. Поднялся шум и визг.
Ольга Николаевна очнулась, открыла заплаканные глаза.
— Вы что? — возмущенно произнесла она, — Радуетесь в такой момент? Вы что, вместе с фашистами?
Ее слова возымели действие. Беготня испуганно прекратилась.
В это время в класс вошла младшая завуч Наталья Васильевна и перебиваемым всхлипываниями тихим голосом объявила, что занятия на сегодня отменяются, все должны идти домой.
На тротуарах сверкали лужи, обрамленные остатками позавчерашнего снега, было тепло и ярко. Оказавшись на улице, девчонки стали мстить мальчишкам за ленточки. Началась веселая драка портфелями. Левику здорово досталось, потому что Лидка Пирожкова и Наташка Зимина, с которыми он был вынужден пройти всю Шевченку, лупили его с двух сторон, а он мужественно отбивался от обеих.
Во Втором Полторацком было тихо и почти безлюдно. Повернув за угол, Левик увидел издалека своих друзей Гарика Кеслера и Растемку Рахмангулова. Они оба учились в ближайшей мужской школе и уже успели вернуться домой. Пацаны стояли под окнами гарикиной квартиры и что-то обсуждали, видимо, последние новости. Ставни на окнах квартиры были закрыты.
Левик знал, что в это время гарикина мама тетя Лиза что-то строчит на своей машинке, она подпольно зарабатывала на жизнь мережкой и закруткой. Когда она работала, Гарик обязательно торчал под окном и следил, не идет ли фининспектор, чтобы заметив того издалека, предупредить маму, и та переставала тарахтеть на машинке.
Дядя Лева, отец Гарика, работал на заводе Кагановича на ремонте паровозов. Это семейство было в войну эвакуировано из Одессы, но Гарик родился уже в Ташкенте… Около года назад дядя Лева возвращался домой с вечерней смены, и в переулке на него напали бандиты. Было все: и «жидовская морда», и ограбление (как раз в тот день выдали получку), и выбитый глаз…
Растемка жил напротив в четырехэтажном доме с надписью «Дом ИТР — 1936», который все соседние жители называли Большим Домом. Его отец работал в этом доме дворником, и у них была замечательная квартира. Левик очень завидовал Растемке, ведь кроме большой, практически пустой комнаты с водопроводом (!), где жила семья Рахмангуловых, там был еще и подвал!
Поэтому, когда играли у Растемки, сразу спускались в подвал, закрывали дверь, чтобы не мешать спать какой-нибудь из трех старших растемкиных сестер, отдыхавшей на матрасе, расстеленном на полу, после ночной смены на кенафной фабрике. А в подвале Растемка был хозяином! У него там, кроме отцовских ведер и веников были даже кое-какие инструменты: пила была, тиски.
Летом Левик с Растемкой приспособили к левикиному фильмоскопу посылочный ящик, провели туда лампочку и стали показывать в подвале на стенке кино соседним пацанам. Жаль только, что фильмов было всего три: «Синдбад-мореход», «Евгений Онегин» и «Дарима» — про героическую монгольскую пастушку, спасшую стадо от волков. Поэтому прокрутили несколько раз – и надоело…
…До приятелей оставалось еще с полсотни шагов. Неожиданно ставни распахнулись, в окне показалась тетя Лиза, которая, сходу не заметив сына, стоявшего сбоку от окна, картавя, привычно заорала на весь Второй Полторацкий:
— Гахик! Гэй ахэйм! *
И тем же, хорошо поставленным одесским криком добавила:
— Сталин из гепейгехт! **
Левик тогда еще не разбирался в тонкостях идиша и осознал услышанное много позже.
* Гарик! Иди домой! (идиш)
** Сталин издох! (идиш)
2003 г.
Источник