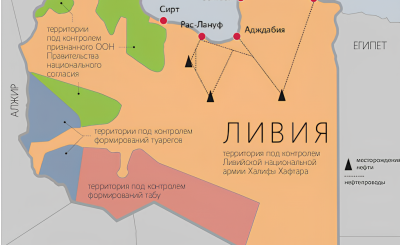Современные левые и правые не в состоянии понять друг друга, как не в состоянии понять друг друга членистоногие и позвоночные. Но понять, кто из них кому соответствует, совсем не трудно; во всяком случае, не менее трудно, чем заметить, кто кому из них затыкает рот.
Современное западное общество решительно расслоилось. В частности по своему отношению к множеству правовых нововведений. Вот одно из самых свежих: 26 февраля 2021 Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о равенстве – Equality Act. Этот закон добавил к числу защищаемых категорий «сексуальную ориентацию» и «трансгендерный статус».
Отныне «местами общественного пользования» объявляются женские приюты, салоны красоты, а также женские туалеты, раздевалки и душевые школ и колледжей. Волею американских законодателей все эти заведения распахивают теперь свои двери перед биологическими мужчинами, считающими себя женщинами. Тем из них, кому почему-то неловко мочиться среди себе подобных, отныне разрешается делать это в обществе женщин, не считаясь с их капризами.
У одних эта новость вызывает тяжелое чувство, у других – чувство глубокого удовлетворения. Хотя в действительности, я не в состоянии постичь внутренний мир этих людей и не представляю, что испытывают в сердце своем сторонники последней правовой моды.
Наши пути разошлись, как разошлись эволюционные пути позвоночных и членистоногих. Существам, крепящимся на внутреннем скелете, и существам, внутри скелета скрывающимся, не дано внутренне друг друга понять, проникнуть в потусторонний для них мир чувств.
Остается лишь констатировать, что процесс расслоения западных народов на два враждебных стана вошел в терминальную стадию. Точка невозврата пройдена, восстановление прежней ситуации невозможно. Противники видят свою сторону как сторону жизни, а противоположную — как сторону смерти.
Что же их так радикально развело?
Раскол этот, очевидно, восходит к прежнему доброкачественному разделению общества на либералов и консерваторов, и несет на себе некоторую печать прежнего противостояния. Поэтому начнем с рассмотрения исходного положения.
Обыкновенно либерализм ассоциируется с «прогрессом», а консерватизм — с «примитивизмом». Но главное достижение либерализма — идеалы гражданского равенства и гражданских свобод – ничего сложного в себе не содержат. Освоить набор этих идей способен ученик начальной школы, да и прочие либеральные блага особого отторжения у консерваторов не вызывают.
«В либерализме, — писал В.В.Розанов, — есть некоторые удобства, без которых трёт плечо. Школ будет много, и мне будет куда отдать сына. И в либеральной школе моего сына не выпорют, а научат легко и хорошо. Сам захвораю: позову просвещенного доктора, который болезнь сердца не смешает с заворотом кишок. Таким образом, «прогресс» и «либерализм» есть английский чемодан, в котором «всё положено» и «всё удобно», и который предпочтительно возьмёт в дорогу и не либерал. На либерализм мы должны оглядываться, и придерживать его надо рукою, как носовой платок. Платок, конечно, нужен: но кто же на него «Богу молится»».
Это отношение Розанова разделяют, в сущности, все консерваторы, которые тем самым отличаются от либералов не отсутствием правовой культуры, а наличием дополнительных ценностей, заслуживающих того, что бы на них можно было «Богу молиться».
Скажу больше, либеральные идеи разрабатывались консерваторами, т.е. людьми, которые «нелиберальные» ценности весьма высоко ценили и как раз в их разнообразии видели залог успеха либерализма.
Так, один из авторов американской конституции 4-ый президент США Джеймс Мэдисон (1751-1836) писал, что свобода в первую очередь обеспечивается не формальными биллями о правах, а «возникает из того многообразия сект, которое столь характерно для Америки, и является лучшей и единственной гарантией религиозной свободы в любом обществе, поскольку там, где существует такое многообразие сект, невозможно образование большинства, принадлежащего к одной секте и способного в силу этого угнетать и преследовать остальных».
Два века назад религиозных конфессий было предостаточно, а химически-чистых либералов было ничтожно мало, так что для защиты их прав Мэдисон изыскивал дополнительные аргументы: «нельзя отказывать в равной свободе тем, чье сознание еще не открылось откровению».
Таким образом, отличить консерватора от чистого либерала в конечном счете позволяет лишь один признак: ограниченность, отсутствие некоторого важного духовного опыта. Чистый либерал – это последовательный агностик, уклоняющийся от того, чтобы впускать в свою душу внешние «откровения». Истинный либерал корректен и прагматичен, он не позволяет «теориям» и «верам» покорять свой независимый ум.
Агностицизм очень часто бывает проявлением глубины и честности, которые даже и не предчувствуются некоторым носителям «откровений». Однако в иных своих версиях он оборачивается злокачественным атеизмом – слепой верой в то, что все, что нельзя пощупать руками, не более реально, чем русалки.
И вот когда общая ограниченность либерала заражается этой верой в «ничто», она превращает в религию сам либерализм.
Католический публицист Франсуа Руло писал: «если принимать либерализм как способ решения всех проблем, он незаметно превращается в идеологию. Идеологу нелегко высвободиться из идеологических пут, даже когда в нем как бы произошел переворот. Обратившись в либеральную веру, он, сам того не осознавая, превращает ее в догматизм. А ведь либерализм — это прежде всего прагматизм, и превосходство либерализма над идеологией состоит как раз в том, что он постоянно подвергается критике и пересмотру, а это совершенно противоположно самой природе идеологии».
Такой идейный либерал, неспособный видеть вокруг ничего кроме себя самого, пугается всякого проявления веры в других людях, видит в них угрозу своей «просвещенности», видит во всех «нелибералах» — «фашистов».
Именно такой либерализм восторжествовал в современном западном обществе.
В книге «Непобедимое Солнце» Виктор Пелевин в следующих словах описывает его характер:
« – А что сегодня значит слово «фашист»? По одной версии, это человек, прячущий у себя дома портрет Трампа, по другой – тот, у кого недостаточно быстро выступают слезы во время речи Греты Тунберг в Давосе. А если забыть про политику, фашист – это любой человек, который мешает тебе удобно припарковаться. Как в физическом, так и в духовном смысле…
– Сегодня ты уже не можешь всерьез бороться с истеблишментом, – сказал он, – потому что менеджеры нарратива облепили его периметр всеми этими милыми котятами с болезнью Альцгеймера, израненными черными подростками и так далее. За живым щитом прячется создающая нарратив бессовестная мафия, но ты не можешь плюнуть в ее сторону, не попав во всех этих Грет…
– При чем тут Грета?
– Совершенно ни при чем. В том и дело, что человеку, который хочет плюнуть в элиту и истеблишмент, поневоле приходится плевать в Грету, потому что истеблишмент оклеил ее портретами все свои стены и двери. И люди, не понимающие в чем дело, но чувствующие подвох, клеят себе на бампер стикер «Fuck you Greta». Подразумевая не Грету, а этот самый истеблишмент. Выглядит, конечно, глуповато.
– Она тебе чем-то не нравится? – спросила я.
– Да какая разница. Дело не в том, что где-то в мире есть добрая Грета, настолько отважная и честная девчушка, что про ее подвиги поневоле сообщают корпоративные СМИ. Дело в том, что корпоративные СМИ с какого-то момента начинают полоскать тебе мозги ежедневными историями про эту Грету. И послать их куда подальше становится проблематично, потому что тебя могут спросить – ты что же, против доброй Греты, гад? Медийная Грета – это не человек. Это агрессивный педофрастический нарратив, используемый транснациональной олигархией в борьбе за контроль над твоим умом.
Она может быть самым искренним и добрым существом на свете, или быть 3D-распечаткой национал-социалистического плаката, или ее может не быть вообще. С того момента, когда ее личину напяливает на себя олигархия, говорить про нее уже нет смысла. Такого не было даже у вас при Сталине. Мы новые крепостные, вот что… Прежний европейский крепостной (Фрэнк говорил «serf») не мог покидать свою деревню, но думать мог что хотел. Современный американский крепостной может ездить по всему миру и даже летать в космос, если есть деньги, но его сознание при этом должно бегать на коротком поводке вокруг нескольких колышков, вбитых корпоративными СМИ – формирователями нарратива».
Этот новый маниакальный либерализм, одержимый идеей заткнуть рот всем «фашистам», разумеется, не стихиен, он результат внедрения в сознание миллионов маркузовской программы «Репрессивной толерантности»; он плод длительной эволюции марксистских фантазий, уходящих своими корнями в «Манифест коммунистической партии».
В этой некогда нашумевшей брошюре дается следующая оценка буржуазии: «Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли».
Этот начертанный Марксом образ «буржуя» невольно напоминает образ царя Мидаса. Согласно древней легенде, царь Мидас умер от голода после того, как получил от Диониса дар все превращать своим прикосновением в золото.
Превращающий все в «золото» капитализм истощает и умерщвляет вокруг себя все живое — таким он рисуется в воспаленном мозгу коммуниста. Однако если в этот образный ряд поместить самого коммуниста, то он отнюдь не окажется диктатором-чудотворцем, превращающим пустыню в цветущий сад.
Марксист — во всех своих исторических инкарнациях — отмечен удивительным даром превращать все, к чему бы он ни прикоснулся, в нечистоты. Там, где он прошел, долгие годы никто не в состоянии будет бороться ни за «мир», ни за «равенство», ни за «экологию», ни за «права человека», и уж, конечно же, ни за «либеральное общество».
Выше я сказал, что современные левые и правые не в состоянии понять друг друга, как не в состоянии понять друг друга членистоногие и позвоночные. Но понять, кто из них кому соответствует, совсем не трудно; во всяком случае, не менее трудно, чем заметить, кто кому из них затыкает рот.
Но увы, не нашлось Линнея, способного присвоить этому отряду беспозвоночных точное и емкое имя. А ведь найти слово, дать имя — иногда означает пройти половину пути к победе. Произносить «Западный берег» вместо «Иудеи и Самарии», и «палестинский народ» вместо «арабского народа Палестины» — значит вести успешное наступление на сионизм, значит играть на его половине поля.
Если в левом лагере для правых людей давно нашлось прозвище «фашист», то сам этот правый «фашистский» лагерь затрудняется как-то припечатать оппонентов, т.е. как-то емко и хлестко их обозначить.
Как это ни обидно, но большей частью их именует «либералами», т.е. именем, которое они сами себе присвоили. Иногда их зовут «антифаши», иногда «неомарксисты», чаще же просто «левые». Эти имена, конечно, вполне адекватны, но блеклы.
Лишь одна Ориана Фаллачи метко называла их «моллюсками». Но не прижилось.
Мне, таким образом, остается лишь констатировать, что современный Запад – это край безымянных бесхребетных, в котором «сброшенные с корабля современности» хордовые с тоской ожидают, когда мутная волна ислама смоет копившиеся десятилетиями марксистские нечистоты в унитаз истории.
Или, может быть, все же придет Машиах? Будем надеяться и верить. Мы ведь не только благодарные пользователи либеральных удобств. Можем себе позволить.